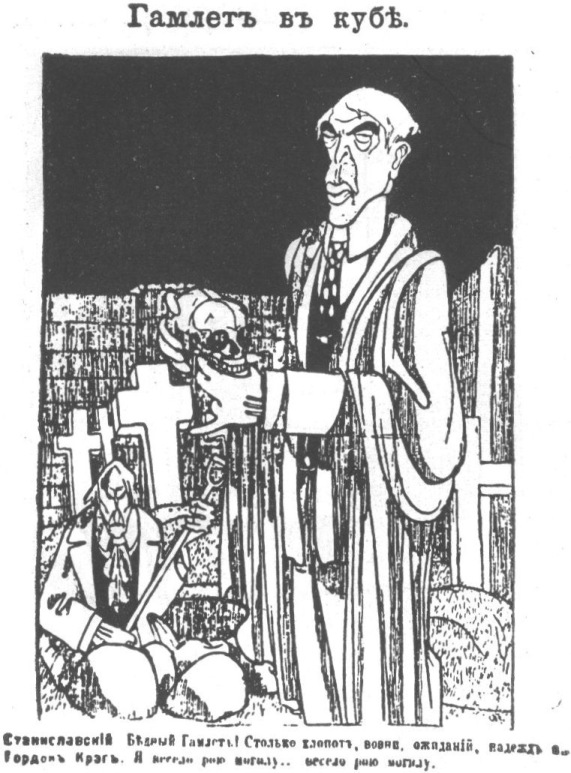Разделы
Рекомендуем
• Bonacure восстановление в Jeternel-Sales. Только профессиональная косметика в Челябинске.
Счетчики
Глава пятая. К новому Гамлету
«Революция красной линией разделила мир на «старое» и «новое»... А когда идет она, выжигающая красными следами своих ураганных шагов линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника?»
Е.Б. Вахтангов «С художника спросится...», 1919
«Даже когда мы возвращаемся к произведениям прошлого... — то это не прошлое воскресает в нас; это мы сами отбрасываем в прошлое свою тень, — наши желания, наши вопросы, наш порядок и наше смятение».
Р. Роллан, «Гёте и Бетховен»
1
Гамлет» недолго оставался в репертуаре Художественного театра, всего три сезона. Но влияние этого спектакля и качаловского исполнения имело свою длительную жизнь, свою историю, продолжавшуюся и после того, как «Гамлет» был снят с репертуара. Вопросы, поднятые этой постановкой, настойчиво требовали своего решения, порождали вновь страстные споры и оценки, приводившие порой к резким и уничтожающим выводам.
К Гамлету — Качалову неизменно обращались всякий раз, когда гамлетовская тема всплывала на поверхность. И вновь этот образ волновал актеров, режиссеров и критиков, будил мысль, вызывал полемику, толкал на путь исканий. Показательно, что качаловский Гамлет вызывал то отрицание, то признание, но никого не оставлял равнодушным.
Можно сказать больше: и Крэг и Качалов в той или иной степени неизбежно оказывали воздействие на последующие попытки сценического осуществления «Гамлета», становясь как бы участниками той идейной борьбы, которая происходила в театре в 20-х и 30-х годах, борьбы, не утратившей своего значения и до настоящего времени.
После премьеры «Гамлета» в МХТ, вызвавшей шумные споры вокруг Крэга и его «ширм», театральная критика и зрители в подавляющем большинстве отнеслись отрицательно к стремлению символистски истолковать Шекспира и восприняли замысел английского режиссера как «враждебный русской сценической шекспириане»1. При этом различие в понимании Гамлета Качаловым и Крэгом, не вполне вначале очевидное, постепенно осознавалось все яснее и яснее. Все непреложнее ощущалась мысль, что идеи Крэга являлись помехой на пути к реалистическому раскрытию Шекспира, что от артиста требовалось их решительное преодоление. И в перспективе десятилетий все значительнее и определеннее вставал образ качаловского Гамлет а, живого, реального, исполненного веры в человека и скорби от несовершенства действительности.
Как и в творчестве Чехова, в качаловском Гамлете неизменно жила «тревожащая душу мечта о будущем», глубокая и благородная тоска по лучшей жизни. И это «чеховское», так органически почувствованное Качаловым в Шекспире, определило не только временное, историческое звучание его Гамлета, Гамлета предреволюционной эпохи, но и направление и смысл той последующей эволюции, которую в роли Гамлета пережил сам Качалов.
Уже начиная с первых критических отзывов о спектакле, многократно и настойчиво повторялась мысль, что свободный Качалов, не связанный «путами режиссерщины», вне чуждого и мешающего ему символического замысла Крэга, мог бы дать Гамлета гораздо более значительного2.
По мнению одного из критиков, «идеи Гордона Крэга всею тяжестью своей обрушились на Качалова... и придавили его... Актера меньшего калибра эти обстоятельства совсем бы сплющили, а Качалов все-таки сумел несколько раз расправить свои подрезанные крылья». И тогда он был «почти прекрасен»3. Этот образ актера, мечтающего о свободном от Крэга исполнении Гамлета, составил содержание веселой и остроумной пародии, которую на вечере в «Летучей мыши», специально посвященном «Гамлету» Крэга, исполнял молодой артист Художественного театра Е.Б. Вахтангов, давший великолепную имитацию Качалова. Этот вечер начинался с монолога «Качалова», который сообщил зрителю о печальной необходимости играть Гамлета по-крэговски, в «ширмах», и с горечью вспоминал то время, когда он, еще до Художественного театра, в Казани мог свободно играть Гамлета, как чувствовал и хотел4.
В постепенном освобождении от «пут» Крэга, в приближении к шекспировскому реализму, в восстановлении утраченного синтеза героического и человеческого, в изжитии элементов обреченности и пассивности заключался внутренний смысл той длительной эволюции, которую претерпел Гамлет у Качалова.
Рассмотрим в основных чертах этапы этой эволюции.
К моменту премьеры, 23 декабря 1911 года, Качалов не довел еще до конца той работы, которой требовала эта роль. Это было вполне естественно. Вспомним хотя бы, что великие шекспировские актеры обычно достигали совершенного и безупречного исполнения роли Гамлета после десятков, а иногда и сотен сыгранных ими спектаклей.
В ряде критических отзывов, последовавших после премьеры «Гамлета» в МХТ, доказывалась необходимость доработки и созревания центральной роли. Н.Е. Эфрос, видевший «Гамлета» на трех последовательных генеральных репетициях, отмечал в газете «Речь», что у Качалова «местами еще осталась недостаточная вжитость в роль... еще видна недовершенная техническая работа». Позднее, в своей монографии о творчестве Качалова, Эфрос находил, что к моменту выпуска «Гамлета» роль у Василия Ивановича была готова полностью, но лишь «не созрела в его технике. От особенностей постановки, а не от неверности или неустойчивости образа, какой носил в себе и в который преображал себя исполнитель, иные моменты роли получали не вполне ту окраску... какую хотел исполнитель. Получали как бы иное звучание». «Пока — это прекрасный очерк углем, кое-где тронутый кистью...»5 — читаем мы о Гамлете — Качалове в одной из журнальных статей, появившихся в начале 1912 года. Эта частичная недоработанность роли, ее эскизность, при которой отдельные моменты, включая сюда и знаменитый монолог «Быть или не быть», пропадали, стушевывались, отмечалась многими критиками. Так, например, Л.Я. Гуревич в своем разборе игры Качалова справедливо указывала, что «некоторые моменты драмы словно не совсем еще установились для него даже в основном внутреннем рисунке и меняются от спектакля к спектаклю; другие — звучат, как неуверенная читка, с внутренними колебаниями и некоторыми прозаизмами в интонации; третьи — например, «конец сцены с «Мышеловкой» — загораются темпераментом в одних спектаклях и тускнеют в других. В общем, роль еще не вполне созрела в душе артиста»6.
Станиславского и Немировича-Данченко в последующие годы не оставляла мысль о необходимости вновь вернуться к работе над «Гамлетом», не только для того, чтобы довести до конца идею перемены декораций на глазах у зрителей, без опускания занавеса, и осуществить целый ряд других технических нововведений, но главным образом, чтоб устранить те «искажения, которых было много в начале постановки», более решительно пересмотреть крэговскую трактовку ряда образов и заменить некоторых исполнителей.
Карикатура на постановку «Гамлета» в МХТ из «Московской газеты»
«Сомнительный успех Гамлета. Сезон трудный, но интересный»7, — записал Качалов в своем дневнике. Беспощадно требовательный к себе, он не был вполне удовлетворен достигнутым результатом. Как рассказывает А.Г. Коонен, Качалов часто жаловался, что ему не нравится, как у него идет та или иная сцена, а однажды даже сказал: «Надо все начинать сначала»8.
Сыграв Гамлета на сцене Художественного театра сорок семь раз, Качалов продолжал все время работать над ролью, совершенствовать свое исполнение от спектакля к спектаклю9. И эта его упорная самостоятельная работа, продолжавшаяся в течение нескольких лет, не прошла бесследно.
Постепенно он научился преодолевать те «неблагоприятные внешние условия», те особенности крэговской постановки, о которых мы говорили в предыдущей главе. Уже к концу первого сезона он полностью овладел «физическим самочувствием» Гамлета и начал освобождаться от некоторой скованности, которая была на первых представлениях. По свидетельству критиков, искренность и душевная глубина его Гамлета стали неуязвимыми. «Тогда вернулась вся первоначальная нежность красок и интимность переживаний, — констатирует Н.Е. Эфрос. — Вот почему те, которые видели Качалова — Гамлета лишь в одном из начальных спектаклей, не знают, до какой высокой степени прелести и гармонии доходило затем его исполнение»10.
Важно не только то, что Качалов добивался в Гамлете все большего мастерства и художественного совершенства. Были и другие, более важные причины, побуждавшие Качалова продолжать работать над образом Гамлета, толкавшие его на некоторый пересмотр и обновление самой трактовки. Артист все острее и острее ощущал ее несоответствие зовам времени. Именно поэтому он, такой требовательный к себе, чуткий и глубоко современный художник, не был полностью удовлетворен созданным им образом, и именно это чувство неудовлетворенности толкало его на новые и новые поиски. Качалов понимал, что его Гамлет, так же как и весь спектакль Крэга, приводил в итоге к безутешному выводу.
В.И. Ленин в одной из своих статей, написанных в июне 1912 года, отмечает, что с разных сторон идут указания на то, что усталость и оцепенение, порожденные торжеством контрреволюции, проходят и что уже «повеяло иным ветром» и «потянуло опять к революции», что 1911 год дает нам «медленный переход в наступление со стороны рабочих масс»11.
А.К. Дживелегов, бывший одним из постоянных участников Литературно-художественного кружка — места сборищ московской художественной интеллигенции, — вспоминает, что в годы 1911—1912 там происходили постоянные оживленные и горячие споры о «Гамлете» Шекспира и о спектакле Художественного театра, причем Качалова часто упрекали в том, что он поддается течениям сумеречным, которые еще не рассеялись, что они тянут его вниз и что в этом во многом виноват Крэг. «Люди тогдашнего времени сознавали великолепно, что Крэг своими формалистическими взглядами и своим декадентским отношением к величайшему образу Шекспира действовал на Качалова как что-то, что пригибало его к земле, и Качалов недостаточно энергично с этим боролся... И я вспоминаю, — сообщает далее А.К. Дживелегов, — как, смотря спектакль за спектаклем, а я видел его раз пятнадцать, мы начали ощущать, что у Василия Ивановича появляется что-то новое, что как будто бы отражает его общение с людьми, которые стоят вне театра, но театром интересуются и объединяют его с течениями идейными и общественными, которые происходят за пределами театра»12.
Это свидетельство современника, указывающее на действительный смысл начавшейся эволюции качаловского Гамлета, представляет для нас большую ценность. Мы имеем ряд подтверждений постепенного изменения трактовки образа Качаловым уже после премьеры. Несмотря на то, что начавшийся процесс пересмотра образа происходил во многом неосознанно, основная тенденция его несомненна: Качалов от спектакля к спектаклю как бы наращивал черты активности, действенный элемент в своем Гамлете. Это отражало не только внутреннее борение, которым был охвачен сам Качалов и которое происходило внутри Художественного театра, сопротивлявшегося отвлеченно-метафизическому, символическому замыслу Крэга, но было и отзвуком назревающих общественных событий. Однако, конечно, эти еще робкие, во многом даже неосознанные попытки Качалова, смутно ощущавшего потребность в «мужественном веянии», не могли привести к значительным изменениям образа, предопределенного во многом и существенном крэговской трактовкой спектакля и общим сумеречным колоритом, навеянным эпохой безвременья.
Для понимания процесса дальнейшей эволюции образа Гамлета важным этапом является постановка этой трагедии Шекспира за рубежом, во время гастролей так называемой «Качаловской группы» МХТ. Новый «Гамлет», осуществленный через девять лет после московской премьеры, был не простым возобновлением старого спектакля, а попыткой самостоятельного решения задачи13. Здесь впервые Качалов получил возможность играть Гамлета вне крэговских «ширм». Показательно, что режиссеры спектакля Р.В. Болеславский, исполнявший в крэговской постановке роль Лаэрта, и Н.Н. Литовцева, не принимавшая вообще участия в прежнем «Гамлете», начали с ревизии постановочного замысла Крэга, отказавшись от его знаменитых «ширм» и от самой идеи монодрамы, которые составляли основу его решения. Сохранив лишь намеки на прежний общий вневременный и внеисторический стиль оформления с его условностью и отвлеченностью, художник И.Я. Гремиславский создал скупой, но в то же время выразительный в своем лаконизме декоративный фон. Применяя цветные детали, задники, панно, драпировки и гобелены, Гремиславский в качестве основного приема оформления использовал принцип движущихся нейтральных сукон и занавесей, изобретенный Станиславским в 1917—1919 годах для «Розы и Креста» Блока и других пьес «романтического характера», частично осуществленный в спектакле «Двенадцатая ночь» в Первой студии МХТ.
Портативность оформления давала возможность легко и быстро, с минимальной затратой труда осуществлять многочисленную смену картин, в то время как «самодвижение» ширм Крэга из-за их масштабов и громоздкости чрезмерно осложняло и утяжеляло спектакль. В то же время нейтральные сукна, принимающие самое различное освещение и окраску благодаря применению светоцвета (что вызвало даже у одного венского рецензента упрек в «упоении красочностью»), давали возможность концентрировать все внимание зрителя на актере, на подаче его «крупным планом», на раскрытии психологического мира человека. Монументальность и величавость архитектурной декорации Крэга временами подавляли, заслоняли актера, снимали смысл человеческой трагедии. Излюбленная тема Крэга — огромный мир и маленький человек, подчиненность человека судьбе, бессилие человека перед неумолимым роком — отступала теперь на второй план. Центр тяжести перемещался от символики к психологизму. Недаром принцип сукон неизменно широко использовался психологическим театром — от Первой студии МХТ до «интимного театра» Августа Стриндберга.
«В этих сукнах мне было легко и удобно играть, — вспоминал однажды Качалов. — Прежде, в постановке Крэга, давили масштабы, не чувствовался человек». Чтобы не быть «раздавленным» декорацией, актеру временами приходилось вступать с ней в борьбу. Художник и актер говорили на разных языках. Здесь же, в этой обстановке, по мнению Качалова, сукна освобождали актера, создавали нужную ему атмосферу. «Я чувствовал, как Гамлет вырастал на моих глазах. Неверно, когда говорят, что актеры Художественного театра в плену у вещей, привязаны к вещи. Вспомните «Карамазовых». Там на сцене было почти пусто, одни голые сукна, и в то же время актеры раскрывались во весь рост, обнажив свои души, трагическую сущность образов»14.
Казалось бы, все обеспечивало Качалову свободное и полное раскрытие образа Гамлета. И действительно, по свидетельству критика, «теперь, по прошествии девяти лет с первого спектакля «Гамлета» в Москве, Качалов играет несравненно горячее и проще. Он как бы сошел с символических котурн Гордона Крэга, чтобы отдаться шекспировской стихии, как власть имущий творец, свободно разбирающийся в указаниях режиссера. Он вырос за эти годы и научился самостоятельно вникать в произведения гения, которые Гёте назвал «необъятными книгами человеческих судеб».
Эти строки принадлежат Сергею Маковскому, который видел качаловского Гамлета в 1921 году в Праге и выразил свое «восхищение игрой Качалова» в специальной критической статье, посвященной разбору этого образа. Но тот же Маковский указывал на черты половинчатости и компромисса, которые отличали эту новую редакцию «Гамлета», хотя и осуществленную вне прямого влияния Крэга, но фактически испытавшую все же на себе воздействие его трактовки. Как утверждает В.В. Шверубович, наблюдавший процесс создания этого спектакля, у режиссеров не было ярко выраженной творческой позиции, четкого замысла, новаторской трактовки. Они стремились лишь к вдумчивому и бережному донесению мыслей Шекспира и были заняты поисками сценической формы, отличающейся простотой, но не лишенной романтической приподнятости. Этот хорошо слаженный, добротный «академический» спектакль оказался ниже возможностей труппы и самого Василия Ивановича. Нам остается добавить, что хотя режиссеры отошли от общего «символического задания Крэга» и, по словам Маковского, «приблизились в значительной степени к шекспировскому реализму», но все-таки в понимании отдельных образов, в раскрытии драматических характеров и положений они во многом остановились на полпути, связанные тем, что уцелело от первоначального крэговского замысла. Об этом вспоминают и участники этого спектакля, где новое сочеталось со старым и где «Гамлет» вновь, как и прежде, был осуществлен вне эпохи, вне исторической конкретности, как «всечеловеческая» трагедия о герое — «избраннике Страдания».
Эта двойственность отразилась и на игре Качалова. «...Характер главного героя преобразился только отчасти, — отмечает тот же С. Маковский. — Многое осталось в нем от крэговского сверхчеловека. «Слишком ко всему готовый» Гамлет — не результат ли того толкования, по которому он один живет и действует, а другие лишь «мерещатся»?.. Мы почти не видим смятенного, жалкого человеческой беспомощностью Гамлета, и не случайно, сдается мне, пропущен «москвичами» рассказ Офелии о том, как в комнату к ней
...вдруг
Вбегает Гамлет: плащ на нем разорван.
На голове нет шляпы, а чулки
Развязаны и спущены до пяток;
Он бледен, как стена, колени гнутся,
Глаза блестят каким-то жалким светом.
Не случайно пропущено и кое-что другое...
В Гамлете — Качалова больше величавости, чем беззащитности, больше суровой отдельности от окружающих, нежели безумия сердца, «жестокости от любви»... Впрочем, страсть вето Гамлете намеренно погашена, отчасти — первоначальным замыслом постановки, идеей Гордона Крэга, положенной в ее основу: сценическим одиночеством, «монодраматизмом» Гамлета»15.
Это во многом справедливо, но односторонне, ибо суть заключалась не только в том, что теперь в ряде случаев в игре «всегда уравновешенного, всегда обдуманно-мелодичного Качалова» присутствовали еще черты прежней трактовки Крэга, а в других случаях он от них освобождался и тогда его исполнение поэтому становилось свободнее, «горячее и проще». Важно другое, и это не сумел уловить Маковский, — претерпевало изменение не только «крэговское», но и «качаловское». В его Гамлете 1911 года ощущалась трагедия эпохи безвременья, трагедия дореволюционных интеллигентских мечтаний и их историческая безысходность. Образ Гамлета поднимался Качаловым до значительного философского и этического обобщения. Его искусство всегда было живым и чутким, оно менялось, эволюционировало вместе с жизнью. Внутренне возмужавши сам, освободившись от прежних привычных представлений, он вновь через девять лет начал играть Гамлета. «Теперь, — рассказывал мне Качалов, — я старался избежать в нем слабости и человеческой усталости. Будучи сам духовно зрелее, и в Гамлете я нажимал на силу и зрелость».
Образ философа, задумавшегося над судьбами мира, сохранился, но неосознанно пробудившаяся в его Гамлете воля к активности и стремление к мужественности окрашивали по-иному тему искупления.
Казалось бы, образ его Гамлета оставался прежним, но в нем происходило смещение акцентов, приводящее к существенным внутренним изменениям. Черты жертвенности, духовного подвижничества, подчиненность страданию, трагическая бесперспективность — все это постепенно отходило на второй план, уступало место иному.
Сохранившиеся фотографии закрепили нам эти черты нового в образе Гамлета — Качалова. Изменился не только грим и костюм, но отчасти и его внутренний образ, его характер, его смысл. Нет больше ни аскетизма, ни монашества, того, что придавало прежде такой своеобразно скорбный оттенок качаловскому Гамлету.
При описании наружности Качалова — Гамлета в рецензиях 1911—1912 годов мы то и дело встречаем такие определения, как «аскет», «инок», «пастор», «монах-рыцарь», «ангел-мститель, призванный восстановить правду», передающие несомненно некоторые особенности его исполнения. Рецензенты отмечали «полувоенные, полу духовные одежды» Гамлета, его «скорбное, пергаментное лицо, цвета церковного воска», «парик à la монастырский послушник», который он надевал на свою «прекрасную одухотворенную голову». Писали, что книга, которую он читал, напоминала молитвенник. «Что-то гугенотское было в его исполнении», — находим мы в одном из отрицательных отзывов, где подчеркивалось, что Качалов в Гамлете, «связанный телесно и духовно, некрасивым подрясником», лишавшим его фигуру пластичности, и «угрюмыми ширмами, обступившими его, как стены тюрьмы», напоминал собой «молодого квакера, который считает вольные и быстрые движения великим грехом, ходит — словно по земле стелется и говорит шепотом»16. В то же время, несмотря на то, что в Гамлете Качалова имелись черты аскетизма и духовного подвижничества и религиозные ассоциации возникали у зрителя не случайно, так как спектакль давал для этого основания, очень многое в этом направлении привносилось и самими рецензентами, часть которых испытала на себе влияние модных в те годы религиозно-философских течений.
С этим образом Гамлета — Качалова 1911 года резко контрастируют фотографии Качалова — Гамлета 1921—1922 годов. Перед нами выпрямившаяся, смело откинутая назад фигура, полная мужества и силы. Руки уверенно и властно сжимают рукоять меча; волосы, прежде спадавшие прямыми гладкими прядями, вьются кудрями. Черты лица стали резче, суровее, энергичнее. Пафос — вот то новое, что совершенно не ощущалось прежде. Как отличается этот образ от того обреченного, как бы ушедшего в себя человека, охваченного мучительно ищущей мыслью, с изжелта-бледным, восковым лицом, бессильно упавшими руками, опущенными плечами, каким впервые предстал перед зрителем Гамлет — Качалов, невольно вызывавший отдаленные ассоциации с образом Христа на известной картине И. Крамского, проникнутого чувством глубокого человеческого страдания интеллигента-мыслителя, решающего мучительные «проклятые вопросы», исполненного огромной нравственной силы.
Карикатура на постановку «Гамлета» в МХТ из газеты «Раннее утро»
Теперь Гамлет — Качалов не только философ-«скорбник», но судия и мститель. «В сцене с матерью он держит себя, как судия непогрешимый, бесповоротный... Не простой отговоркой нерешительности звучит его угроза молящемуся Клавдию: «Живи еще, но ты уже мертвец!» — в сцене, которая, кстати сказать, пропускалась в московской редакции спектакля17.
И хотя сам Качалов, как обычно, был недоволен собой и своим исполнением отдельных сцен (особенно монологом «Оленя ранили стрелой...», где он, по его словам, «пел», «орал», «отвратительно декламировал»), многое в его новом Гамлете было ярко, сильно и воспринималось зрителями восторженно. В письме к Станиславскому, посланном из Праги 19 сентября 1921 года, О.Л. Книппер-Чехова сообщает, что «Качалов интереснее играет, чем прежде, появилась какая-то устремленность, меньше философствует... Он прекрасно сейчас играет сцену с матерью, сцену с привидением отца, «Быть ил» не быть»...
По-новому, глубже, весомее, значительнее, чем в московском спектакле, звучали теперь у Качалова слова Гамлета о распавшейся связи времен. Сам артист говорил, что тему эту «и понять по-настоящему нельзя было в 1911 году». Вспоминая об исполнении Качаловым роли Гамлета за рубежом, В.В. Шверубович пишет в своих мемуарах, что лучшим местом спектакля был конец сцены с духом. «Кроме «Порвалась связь...», место, которое всегда удавалось, часто удивительно хорошо шла сцена с Офелией, «Слова, слова, слова», «С недавних пор утратил я всю свою веселость», наставление актерам. Редко Василий Иванович бывал доволен «Быть или не быть». Ни разу не был доволен «Мышеловкой» и очень, очень редко «Кладбищем». С особенным успехом прошла премьера «Гамлета» в Копенгагене (18 апреля 1922 года), где Василий Иванович «играл сильнее, крепче, страстнее и, главное, смелее, чем когда бы то ни было в жизни».
«В Гамлете я нажимал на силу и зрелость» — эти слова Качалова, сказанные им о Гамлете начала 20-х годов, разве не выражали они наметившейся в новых послереволюционных условиях переоценки ценностей. И разве не поразительно, что именно к качаловскому Гамлету, которого обычно ошибочно представляют слишком интеллигентски рефлексирующим, исполненным будто бы только скепсиса и тоски, относились такие странные и на первый взгляд мало объяснимые оценки: «Речь Качалова сочна, дикция прекрасна, жест благороден, каждый вершок — герой. Но он не Гамлет!» Так писал в 1921 году в «Neue Freie Presse» Эмиль Клегер, хотевший видеть Гамлета утонченным декадентом, скептиком, каким и изображал его Кайнц, и нашедший в Гамлете — Качалове «здорового и сильного» принца, в жилах которого «клокочет кровь мятежника»! Эта неожиданная и парадоксальная оценка станет понятной, если учесть политический смысл той нетерпимости, которую проявила к «русскому Гамлету» австро-немецкая пресса. «Нам чужд их Гамлет. Но молодой, полный жизненных надежд русский народ не может мириться с духом жизнеотрицания, которым проникнут Гамлет»18.
Итак, пытаясь преодолеть ущербность «интеллигентской героики», трагическую обреченность Гамлета, Качалов усиливал тему борьбы, тему мужественности. Чрезвычайно важно отметить начавшийся процесс пересмотра образа, но нет оснований, однако, переоценивать практический результат того, что-было достигнуто Качаловым в роли Гамлета в 1921—1922 годах, ибо актер тогда скорее лишь намечал, чем окончательно решал эту задачу. Повторяем еще раз — черты компромисса, характерные для этой новой, зарубежной редакции мхатовского «Гамлета», имели место и у исполнителя главной роли. Гамлет Качалова той поры был звеном в цепи сложных и длительных исканий в работе над трагическими образами Шекспира, которые так характерны для Качалова в последующие годы. Может быть, в отдельные моменты этот качаловский Гамлет 1921 — 1922 годов казался грубее и прямолинейнее, может быть, актер временами слишком нажимал на силу, лишая порой образ прежней органичности, одухотворенности и философской глубины, но внутренняя потребность в пересмотре образа, которая ощущалась артистом, и то направление, которым он шел, был» правильны. Даже С. Маковский должен был признать, говоря о качаловском Гамлете, что «большой русский актер дает в нем свое лучшее. Не будем корить его за то, чего он не дает. Это лучшее приковывает наше внимание и освещает небутафорским лучом шекспировскую глубину... Такой Гамлет — что угодно, но не пустоцвет фразы, не заблудившийся в себе интеллигент, не озлобленный неврастеник. Он все время — герои трагедии, напряженно-впечатлительный, порывистый, прямой, изменяющий себе не от дряблости чувства, а от «гибельного избытка сердца», по слову Гончарова, или, как сказал Шекспир в одном из сонетов: «От силы чувств своих слабеющий душою»19.
Дальнейшая эволюция качаловского Гамлета, как мы увидим позднее, связана с общей эволюцией творчества артиста. Присущее ему глубокое и органическое «чувство времени», его включение в новую жизнь, рожденную революцией, помогли преодолеть ощущение скорби, исторической безысходности и пессимистической раздвоенности, которые порой совершенно отчетливо звучали в некоторых его дореволюционных образах, исполненных мучительного разлада между сознанием и волей, пронизанных, как и его Гамлет, тоской по лучшей жизни, ее ожиданием и предчувствием.
Гамлет Качалова становится свободным от воздействия Крэга, приобретая черты большей страстности, жизнеутверждения и мужественной силы.
И это особенно ясно ощущалось в сравнении с тем, как играли Гамлета Ал. Моисси и М.А. Чехов, в 20-х годах выступавшие в этой роли в Москве.
2
Если мы вспомним, что Гамлет Моисси, созданный почти одновременно с Качаловым, стал одним из значительнейших явлений в сценической истории Гамлета первых десятилетий XX века, то сравнение Качалова с Моисси в этой роли будет не только закономерным, но и неизбежным.
Оба артиста были связаны личной дружбой и с огромным уважением и нежностью относились друг к другу. В.В. Шверубович вспоминает об одной их встрече в Праге, продолжавшейся целую ночь. «Оба они (Василий Иванович и Моисси) были предельно заинтересованы друг другом; они стремились понять друг друга до самых глубин... Часов 5 или 6 продолжалась эта «исповедь горячего сердца». Шверубович совершенно изнемог, переводя им их споры об искусстве, их согласия и несогласия, а они «все говорили и говорили, жали друг другу руки», приходя в восторг, когда выяснялось, что взгляды их совпадают. Увидев Гамлета — Качалова на одном из пражских спектаклей, Моисси был совершенно пленен исполнением этой роли, звучанием речи и пластикой артиста и просил, чтоб ему латинскими буквами написали слова «Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден», выучил их по-русски и «с видимым наслаждением повторял их, не копируя, но в то же время очень похоже на Василия Ивановича».
Неоднократно указывалось не только на близость искусства Александра Моисси и Качалова, но и на сходство их Гамлетов, которое бросалось в глаза современникам.
За несколько месяцев до того, как Качалов сыграл Гамлета в крэговском спектакле, Блок видел Гамлета — Моисси в Берлине, у Макса Рейнгардта. «Это — берлинский Качалов, только помоложе, и потому — менее развит»20, — писал он о Моисси. В одной из первых рецензий о Качалове — Гамлете, отмечавшей одухотворенность и простоту его облика, мы встречаем следующее характерное замечание: «Грим, напоминающий обаятельную простоту Моисси. Но зрелее весь облик». Это сопоставление не случайно. Можно сказать, что с момента появления качаловского Гамлета, в течение двух десятилетий Гамлет — Моисси следует за ним как тень, как его вечный спутник.
«Хотите приблизительное сравнение Моисси — наш Качалов», — писал Эм. Бескин в связи с гастролями Моисси в Москве в 1924 году, утверждая сходство Гамлетов Качалова и Моисси «даже во внешности»21. В другой рецензии того же критика мы читаем о Гамлете Моисси: «Его отверг бы Мочалов. Но его примет Художественный театр. В нем, в Художественном театре, мы и видели впервые стиль подобного толкования. Помните Качалова — Гамлета»22.
Во время выступлений Качалова в Праге, в Вене, Берлине и Стокгольме в 1921 —1922 годах сравнение его с Моисси возникало неоднократно. Но особенный интерес и остроту оно приобрело во время гастролей в Копенгагене, на родине принца датского, весной 1922 года, где оба знаменитых актера, Моисси и Качалов, одновременно играли Гамлета. И это, естественно, вызвало огромный интерес в публике, рождало споры и сравнения23.
Когда в 1924 году Моисси выступал в Москве в «Гамлете» с ансамблем актеров Малого театра, то Эм. Бескин писал, выражая распространенное мнение, что «Моисси может и должен играть у нас только в антураже близкого ему Художественного театра. Только тогда могла идти речь и о каком-нибудь единстве этих спектаклей»24. В том же году, когда МХАТ возвратился из заграничных гастролей, Моисси вновь выступал в Москве. Покидая СССР, на прощальном вечере в Художественном театре, устроенном «в честь Сандро Моисси при его личном участии», он играл сцены из «Гамлета» с актерами МХАТ, в то время как Гамлет Художественного театра Качалов в том же концерте выступал в «Эгмонте»25.
Однако неоднократно отмеченное, как мы видим, сходство Гамлетов Моисси и Качалова обычно не шло далее случайных намеков, кратких, а часто и поверхностных параллелей. Но если бы кто-нибудь подверг внимательному изучению и сравнительному анализу творчество Моисси и Качалова, то, несмотря на имеющиеся несомненно точки соприкосновения (некоторая общность исходных позиций этих артистов в раскрытии гамлетовской темы, их стремление к естественности и простоте, снижению трагически героического и активно действенного начала), открылось бы существенное и принципиальное различие между «берлинским» и «московским» Гамлетами, различие, до сих пор не осознанное во всей его глубине.
Моисси модернизировал Гамлета, изображая его человеком не XVI, а XX века. «Он скинул со своего Гамлета все вериги датского двора. Оставил на нем скромную куртку из его студенческого гардероба и привел на берлинскую улицу, в берлинскую квартиру»26, — так описывает Гамлета — Моисси рецензент московского спектакля. В нем почти ничего не сохранилось от истории, от елизаветинской Англии. Лишь намек на ренессансный костюм (трико и колет, больше напоминающий курточку ибсеновского Освальда) выдает, что перед нами персонаж из трагедии Шекспира.
Гамлет — Моисси антиисторичен и по духу. Моисси продолжает традицию психологической, «общечеловеческой», внеисторической трактовки Гамлета, получившую свое высшее выражение во второй половине XIX века у великих итальянских трагиков и позднее — на немецкой сцене, в творчестве Кайнца, этого родоначальника «неврастенической» традиции в исполнении Гамлета27.
Гамлет — Моисси поэт, мечтатель. Весь он какой-то озаренный, витающий в грезах, весь словно из другого мира, тоскующий в чуждом ему окружении.
Бледное, тонкое лицо рано созревшего мечтательного юноши, со следами тяжело пережитых страстей, со складками сомнений, избороздившими его лоб. Глубоко запавшие, скорбно вопрошающие глаза смотрят кротко и жалобно. «Его любимый усталый жест опущенной и согнутой в кисти левой руки», «его любимая, задумчивая поза, напоминающая S-образный изгиб тела Венеры Боттичелли», полны пластической выразительности28. Наконец, его голос необыкновенного тембра и красоты, нервный, колеблющийся, певучий придает образу Гамлета какую-то особую музыкальность и остроту.
Тщедушная, тонкая, маленькая фигурка Гамлета — Моисси поражала своей почти женственной слабостью. Не Гамлет, a «Hamletino», «трогательный Гамлетик», хорош в изображении бессилия — так характеризовал его исполнение Альфред Керр29. «Лимфатический юноша», не Гамлет, а «только ¼Гамлета» — замечает о Моисси Зигфрид Якобсон вскоре после премьеры «Гамлета» у Рейнгардта, где Моисси играл заглавную роль30. «Моисси делает из Гамлета человека живого, тонкого, чувствительного», — пишет Андре Антуан, которого особенно поразила искренность, простота и отсутствие «театральности» у Моисси.
Критиков, воспитанных на Сальвини и Муне-Сюлли, на Поссарте и Барнае, на традициях торжественно-декламационного, приподнято-пафосного стиля игры, удивляла странная и непонятная и вместе с тем такая волнующая простота, человечность и трагическое бессилие Гамлета — Моисси.
«Моисси — трагик di grazia, легкий, лирический трагик... не более, как трагический «тенорино». Если бы «Гамлет» был написан Чеховым, — автор, вероятно, мечтал бы о таком Гамлете», — писал А.Р. Кугель и признавался: «Может быть, мы напрасно взываем к старым теням и героическому прошлому, но в наших ушах звучат еще громы прежних трагических героев, и глаза наши, и сердце наше полны потрясающих воспоминаний»31.
По сравнению с Качаловым и Кайнцем Гамлет у Моисси слишком слабый и беспомощный. У Кайнца Гамлет агрессивнее, более героический, волевой и страстный; он и философ, и принц, и в то же время претендент на престол. Он не только мучился решением конечных проблем бытия, но хотел знать, кто убил отца, хотел убедиться в этом, так сказать, юридически это выяснить. В нем была нервность и неврастеничность, но не было пассивности и мечтательности.
У Моисси Гамлет не мститель, не судия, а невинная жертва. В нем была лирическая усталость и неприспособленность к жизни. Он страдалец. Он одинок в окружающей его среде притворства, коварства и злобы. Поэтому порой с отвращением, даже с брезгливостью смотрит он на представителей того мира, где все кругом так пошло, вульгарно и отвратительно. Поэтому так судорожно хватает он Горацио, как бы говоря ему: «Не покидай меня!» Поэтому в сцене на кладбище, держа в руках череп, он так ласково гладит его, словно завидует, мечтая о смерти.
Его Гамлет не хочет жить. Это главное. И эта черта окрашивает собой все его исполнение.
В сцене дуэли с Лаэртом, которую Моисси проводил с необыкновенным пластическим совершенством и стильностью, по свидетельству Белы Балаша, он был как лунатик, находящийся где-то словно «по ту сторону» мира. Мысль его уже не живет здесь, он не смотрит по сторонам, как бы отсутствующий, ведомый чьей-то чужой волей. Он не хочет быть королем, ему не нужно престола (зачем он ему!), он хочет одного — умереть.
Гамлет — Моисси как бы шутит с Лаэртом, раскидывает руки, подставляя себя под удар. Его ранили. Он пошатывается, но не испытывает ни боли, ни злобы, ни отчаяния. В его взгляде — благодарность Лаэрту, радость освобождения. Голова бессильно склоняется в сторону. Он смотрит на грудь, на свою рану, слабо улыбаясь. Беспомощный жест его разведенных в стороны, как бы недоумевающих, устало повисших рук выражает примиренность, чувство покорности. Ноги сгибаются все ниже и ниже, он как бы оседает к земле и наконец падает на колени.
И эта размягченность, беспомощно-недоумевающий жест его рук, выражение лица, как бы говорящее: «Что же я могу сделать?», его словно виноватая, в чем-то извиняющаяся улыбка умирающего, наконец, эта безвольная склоненность головы — разве в этом во всем не заключается основной эмоциональный строй, основное «зерно» его Гамлета? Он не был, подобно Качалову, философом, мучительно ищущим смысл жизни, разрешения сложных общественных противоречий. Он не был и подвижником, живущим мыслью преобразовать, исправить «презренный мир».
У Моисси трагедия о Гамлете — и в этом заключается особый волнующий лиризм его исполнения — стала трагедией одинокой души, вобравшей в себя «весь мир». Но это не была «великая душа», страдающая за человечество от моральной порчи и всеобщего разложения мира, ставшего тюрьмой для свободного человека. Не стремление «спасти мир», а, напротив, глубоко личная жалоба, горькая ирония и упрек самому себе звучат как лирическая исповедь в монологах Гамлета у Моисси. В нем было что-то трогательно детское, подкупающее наивной и прекрасной верой в идеальное в человеке, своей поэтической, нетронутой чистотой.
Интимизация Шекспира, осуществленная Моисси, особенно наглядно обнаруживается в сцене у королевы, где он достигает одного из самых сильных, трагических моментов. В исступлении и ярости врывается Гамлет — Моисси в спальню королевы, но этот порыв гнева быстро проходит и в последующем объяснении он отнюдь не карающий и злобный мститель. Напротив, он здесь, как ребенок, пришедший к матери. Он и не пытался исправить, «спасти мать», как это делал Качалов. Скорее кажется, что сам он нуждался в помощи и спасении. Он говорит королеве страшные и оскорбительные слова. Но как! Он на коленях у ее ног, совсем по-детски прижался к ней, плачет. И в том, что он говорит это, как он прильнул к ней, положив голову ей на колени, ощущается и огромная любовь и чувство большой боли. То, что он сказал ей, не имеет значения.
Точно так же и в сцене с Офелией его оскорбительные слова по адресу женщин как бы идут против смысла, против того, что чувствует и чем охвачен его Гамлет в эти мгновения. Он оскорбляет Офелию и в то же время страстно ее любит. Его слова противоречат его взгляду, звуку его голоса. Чувствуется, что ему больно. Он хочет говорить ей о любви, протягивает к ней руки, но пальцы задерживаются, не коснувшись ее. И он ударяет ее словами, выливая в них всю злость, негодование, сам изнемогая от горя, полный любви. Его жалко, так как он страдает сильнее. Эта сцена полна у Моисси трепетной нервности и эмоциональной взволнованности. Он не безучастен здесь, как Качалов, для которого личное в Гамлете оттеснено «а второй план «всечеловеческим». Разрыв с Офелией для Гамлета — Моисси отнюдь не второстепенная, проходная сцена. Для его Гамлета в этом «разрыве» — большая личная трагедия, переживаемая страстно и мучительно.
Вообще, как это тонко заметил Б. Балаш, Гамлет — Моисси «больше любит, чем ненавидит. Даже тогда, когда убивает Полония, ему жалко. Это чувствуется»32.
Показательно, что моменты наивысшего драматического напряжения и подъема, требующие действенно героического раскрытия роли, где трагическая борьба внутренних противоречий и конфликтов вырывается наружу, не были у Моисси лучшими в его исполнении. Зато целый ряд второстепенных мест, где выступала на первый план интимно-лирическая тема, стал неожиданно волнующим, получил особое значение и смысл. Александр Блок сделал очень интересное наблюдение об игре Моисси в Гамлете: «Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака? «Нет, отвечает Горацио, серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет»33. Как не похож этот меланхолический «тихо плачущий» Гамлет на монументальные образы великих трагиков!
Гамлет у Моисси, как и у Качалова, был лишен бурных порывов и героических страстей, и в то же время достиг новых, простых и неожиданных эффектов, по-иному раскрывающих существо трагического. Моисси в «Гамлете» ни на мгновение не терял контроля над собой, и, что особенно поразило вождя французского театрального натурализма А. Антуана и о чем он писал в своей рецензии в октябре 1925 года, Моисси даже в сценах с Призраком не переступил за грань безумия, как это делали Цаккони и Муне-Сюлли. Не на трагическом подчеркивании ужаса, не на предельном выявлении и напряжении чувств, а на их скрывании строит он эту сцену. «...Он не выходит из глубокой полутьмы и скрывает от нас свое лицо, которое он покажет зрителям лишь позже»34. Правда, в сценах с Призраком у Моисси, может быть, больше болезненного испуга, чем трагического ужаса, но в самом стремлении избежать привычных театральных эффектов, в этом «скрывании трагического» заключается одна из особенностей его исполнения.
Однако было бы неверно думать, что трагически-действен-«ые моменты совершенно отсутствовали у его Гамлета. Они были, конечно, но, как и у Качалова, не они доминировали. Б финале спектакля, когда Гамлет — Моисси узнает о предательстве, о том, что клинок, ранивший его, отравлен, что королева умирает, он за минуту до этого сам призывавший смерть как счастье, почти умирающий, вскакивает с колен. У него прилив деятельных сил, радость, самое большое торжество. Теперь он может убить. Он в экстазе кричит, вскидывает рапиру вверх и ловит ее. Он не спешит свершить месть, зная, что теперь все окончательно решено — король не уйдет живым. И через мгновение с чувством ярости и исступления он устремляется к королю, чтобы нанести удар.
В сцене «Представления» Гамлет — Моисси был вначале как бы совершенно безучастен и равнодушен к происходящему, как будто оно его не касалось, так как он заранее уже знал, что будет, и не себе, а другим хотел доказать виновность Клавдия. Но затем в один из последующих моментов, после ухода придворных, артист заканчивал сцену «исступленным буйством».
Моисси сохраняет трагизм Гамлета, но подходит к Шекспиру с лирической концепцией трагического. В отличие от Качалова, который, несмотря на скорбную лиричность своего Гамлета, все же был, как это показано выше, скуп на лиризм, Моисси понял эту трагедию иначе. Он раскрыл в Гамлете музыкальную стихию, показал его человеком, пронизанным лирическим ощущением жизни.
В Гамлете у Моисси моменты статические, повествовательные порой преобладают над действием. Он как бы приглушенно рассказывает повесть о Гамлете, как лирическую исповедь о себе, как свою собственную судьбу, снижая тем самым пафос и мощь кровавой трагедии Шекспира.
При постановке «Гамлета» в 1909 году внимание Рейнгардта было направлено к созданию «таинственной атмосферы», окружающей замок датского принца. Сочетания красок подбирались таким образом, чтобы, как пишет проф. А.А. Гвоздев «создать на сцене настроение подавленности, туманных очертаний и таинственности. Опуская уровень пола в глубине сцены, режиссер получает некое неопределенное пространство, из которого в туманной дымке возникают образы шекспировской трагедии. При этом режиссер стремится передать зрителям впечатление, что в этом таинственном замке происходят странные, жуткие и необъяснимые события»35.
Своеобразие исполнения Моисси заключается в том, что его Гамлет, как и Освальд в «Привидениях» Ибсена, — уставший, надломленный человек, «родившийся с червоточиной в сердцевине». Как Освальд весь во власти привидений, так и Моисси — Гамлет мучительно борется с призраками, с духом прошлого. «В «Гамлете» он с первого действия как потерянный, словно мир превратился в его глазах в легкое видение, нереальное, созданное мечтой», — так оценивает впечатление от игры Моисси В. Жирмунский в своем «Письме из Германии»36.
Программа вечера А. Моисси в МХАТ 7 января 1925 г.
Моисси раскрывает в Гамлете черты болезненности и обреченности. Не случайно, что до «Гамлета» он показал целую галерею надломленных, переживших крушение людей. В натуре Моисси, по меткому наблюдению Юлиуса Баба, таились «мрачные соки», которые, как «болотный огонек», освещали его ранние образы — несчастного маленького скорбника из «Пробуждения весны» Ведекинда, преследуемого привидениями ибсеновского Освальда, молодого принца из «Флорентийской трагедии» Уайльда и «гофмансталевского глупца, хмурого гостя на мрачной земле» в лирической драме «Безумец и смерть»37.
Тема «потерянного поколения» — трагическое мировосприятие людей, находящихся в разладе с миром, остро ощущавших социальное неблагополучие жизненного устройства, свою неприкаянность и внутреннюю опустошенность — проходит скорбной, щемящей нотой через образы, созданные А. Моисси. «Страдания несчастной, обреченной на гибель молодежи», чувствующей себя беззащитной и беспомощной в отравленной пороками, обманом и ненавистью социальной атмосфере — так определил Бернгард Рейх внутреннюю тему творчества Моисси38.
И даже Гамлету, особенно в первой редакции, Моисси придал черты обреченности и распада. Тема наследственности, как проклятие рока, нависает над этим хрупким и нежным Гамлетом, образ которого осложнен умонастроениями, связанными с кризисом западноевропейской буржуазной культуры XIX—XX веков.
Но, создавая образы сломленных людей, Моисси не давал, как Цаккони, патологию страдания, клинически протокольную картину процесса умирания, постепенного и физического распада. Он показал не грубо физиологическое, а духовное страдание своих героев. Как говорит Юлиус Баб, «он дал их души, он дал меланхолию их падения, но не их телесные судороги». Он возвышал их над обыденностью, показывая их в разладе с мещанским прозаизмом буржуазной жизни, воплощая их тоску по чему-то неземному, поэтическому, их внутреннюю раздвоенность, огромное чувство неудовлетворенности. Он искал гармонии и красоты в своем музыкально-лирическом искусстве, пронизанном глубоко трагическим ощущением «ужаса жизни».
Глубокое внутреннее единство, и это не случайно, роднит в творчестве Моисси образ Гамлета с Освальдом и Федей Протасовым. Не случайно именно эти роли, так же как и его прославленный Эдип, наиболее полно раскрывают лейтмотив творчества Моисси.
Всюду его герои, вечно неудовлетворенные и тревожно-тоскующие, страдающие от соприкосновения с вульгарной обыденщиной буржуазного общества, живут в мире мечты, особой, замкнутой в себе жизнью. Моисси постоянно играл тему одиночества. Но если качаловский Гамлет глубоко страдает от этой вынужденной трагедии одиночества, то для Гамлет а — Моисси оно естественное состояние.
В Протасове Моисси показал страдание «лишнего человека», ставшего «трупом». Он показал слабого, но поэтического страдальца, добровольно уходящего из жизни, ибо он познал всю ее грязь, лживость и бессмыслицу. Моисси подчеркнул в образе Феди радость страдания, жертвенность самоустранения, толстовское непротивление злу и искание выхода в смерти, освобождающей от земных мучений. В Освальде — одиночество и надломленность страдающего неизлечимой болезнью человека, обреченного на смерть. И там и тут тема смерти доминирует, тяготеет, как рок, делает невозможными всякую жизненную борьбу и сопротивление.
Жертвенность Протасова и обреченность Освальда — существенный корректив к Гамлету — Моисси.
Моисси добивался конкретности и индивидуализации образа, стремясь каждый раз заново подойти к роли, проникнуть в ее сущность, раскрыть внутреннюю психологическую жизнь со всеми ее тончайшими нюансами, и в то же время выделить «одну особенно выразительную для данного лица черту его духовной природы», подчинив ей все остальное. Но сосредоточивая все внимание на психологии своих героев, Моисси оставался совершенно равнодушным к задачам перевоплощения. Он играл и Ибсена, и Толстого, и Шекспира почти одинаково, мало считаясь с автором, эпохой, бытом, стилем произведения, развивая везде свою тему. Как справедливо было отмечено советской критикой, и датский принц эпохи Ренессанса, и русский барин, и норвежский художник в исполнении Моисси были принципиально лишены всего конкретного, исторического, национального39. В сущности, Моисси и в Гамлете, и в Феде Протасове, и в Освальде показывал некую «современную душу», облаченную в различные «костюмы истории».
И если Качалов в процессе своей последующей работы над Гамлетом и другими шекспировскими ролями стремился к более полному и целостному раскрытию ренессансного в образе, к неповторимости, многообразию и мощи характера, то у Моисси наблюдалось обратное. Для него смысл эволюции образа Гамлета заключался в том, что он постепенно все больше и больше приближал Гамлета к современной драме, к «трагедии современности». Не случайно, что он с успехом выступал в тех спектаклях, где «Гамлета» играли почти в современных костюмах (например, в 1918 году на арене цирка, в постановке Рейнгардта), причем, по отзыву очевидцев, только он один из всего ансамбля и был органичен и художественно убедителен.
Когда говорят о Моисси и в Гамлете и в других ролях, обычно отмечают простоту его игры, сближая его в этом смысле с Качаловым и с МХТ. Однако здесь также необходимо внести некоторые уточнения.
В искусстве Художественного театра простота являлась результатом глубины психологических переживаний. При этом в некоторых случаях в погоне за естественностью эта простота принимала прозаически будничный, нарочито нетеатральный характер.
В отличие от МХТ Моисси при всей его кажущейся простоте был далеко не прост. Его простота — не простота естественности, а в известной мере «изысканная простота». И если Качалов в Гамлете и в других ролях жизненную убедительность, психологическую правду человека, естественную логику его поступков ставит выше «игры актера», делает порой внешнюю технику незаметной и подсобной, то у Моисси особенно часто бросалась в глаза техника, виртуозность мастерства, основанного на точном, выверенном расчете.
И если Качалова, Станиславского, Москвина и любого другого из замечательных артистов МХТ нам трудно представить себе играющими спектакль на цирковой арене, то Моисси с одинаковой легкостью играл и на арене цирка и в интимно-психологических спектаклях, переходя от страшных трагических воплей ослепленного Эдипа к мелодическому шепоту или стонам страдающего Освальда.
Именно в исключительной музыкальности секрет и обаяние игры Моисси. Его позы, жесты, движения были поющими, как и его слова, его голос. Он достиг совершенства в музыкально-ритмической разработанности движений, в выразительной пластике поз и жестов — помимо Эдипа, вспомним хотя бы его элегантно фехтующего Гамлета или финальный момент спектакля, когда воины Фортинбраса поднимают вверх на вытянутых руках «мертвое тело» Гамлета — Моисси, но не безжизненно провисшее, как это было бы при естественном изображении смерти, а, наоборот, условно выгнутое, распластанно-застывшее в стилизованной позе, — момент, поражающий своей пластической красотой!
Однако главная сила Моисси заключалась не только в музыкально-пластической разработке движений и жестов, а в его речевом мастерстве, основанном на исключительных природных данных и совершеннейшей технике. При этом так же, как движения Моисси часто переходили в пантомиму и танец, были выражением ритма и музыки, так и его речь часто переходила в мелодекламацию и в волнующее пение.
Голос необыкновенного тембра, гибкости, силы и красоты — могучее выразительное средство в искусстве Моисси. Он умело пользовался всем многообразием его возможностей: просто речь, шепот, вскрик, стон и, наконец, долгий, протяжный, поющий звук.
При этом самый звук его голоса, его мелодия порой не были логически оправданы, не были иллюстративными, а являлись как бы условным выражением эмоционального состояния. Он не произносил, а выпевал свои роли. Быстрая смена темпов, напряженное нарастание звука, нервная страстность держали зрителя в состоянии повышенного эмоционального возбуждения. И это своего рода опьянение зрителей шло не только от содержания, не просто от смысла произносимых слов, а во многом и от музыки голоса, от красоты звука, от напряженно-чувственного, нагнетающего звучания.
Если у Качалова мысль, содержание, текст автора стояли всегда на первом месте, а декламационно-музыкальное мастерство, искусство чтения стиха (а он владел им с редким совершенством, и в роли Гамлета оно вызвало такой почти единодушный восторг критики) являлись лишь вспомогательным средством, а не целью, то у Моисси, может быть и вопреки его намерениям, откровенное обнажение приема, «освобождение» и подчеркивание ритма, музыкальности слова и движения временами приобретало самостоятельное значение.
В этом заключалось коренное отличие Моисси от Качалова.
Искусство Качалова вырастало на другой основе. В его репертуаре не было ни Шницлера, ни Ведекинда, ни Гофмансталя, ни Уайльда, то есть тех авторов, в пьесах которых Моисси приходилось играть. Его искусство свободно от воздействия декаданса, в нем отсутствуют черты болезненности, упадочности. Ему чужда эстетизация страдания. Как художник он органически вырос прежде всего на традициях великой русской реалистической литературы XIX—XX веков, воплощая образы Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Островского, Толстого, Чехова и Горького.
Качалов неоднократно играл «неврастеников» (чеховский Иванов, Иоганн Фокерат в «Одиноких» и другие), но всегда сознательно избегал подчеркивать в них клиничность, истерию, болезненную нервность и желчность. Они были скорее неудачниками, а не вечно раздраженными и озлобленными на мир неврастениками, больными людьми. Качалов одинаково не принимал не только экспрессивно-болезненного надрыва, который позднее с любопытством и увлечением экспериментатора, остротой и жестокостью воспроизводил М.А. Чехов в Эрике XIV, Мармеладове, Гамлете и Муромском, но и утонченности Моисси.
Одухотворенная «бестелесность» импрессионизма, крэговская «музыка ирреальности», символизм Метерлинка и позднего Ибсена не захватывали Качалова, а, наоборот, вызывали в нем внутренний протест и сопротивление.
Тема переплетения мистического и чувственного, рокового и сексуального, «вечная» коллизия любви и смерти, типичная для искусства декаданса, отразившаяся частично и на творчестве Моисси40, совершенно чужда Качалову. Чувственное раскрытие темы любви отсутствует в его искусстве. Созданные им в дореволюционный период его творчества образы одиноких мечтателей, философов-интеллигентов охвачены активной духовной страстью, пафосом мысли. Вообще изображение любви у Качалова обычно оттеснено на второй план, показано не как главная, а как побочная тема.
Эволюция творчества Моисси протекала в постепенном, настойчивом освобождении от пут декадентства, в поисках человечности и сдержанной простоты, отчасти приближающей его к МХТ. Его путь был извилистым и трудным, полным ложных обольщений и горьких разочарований. Самая смена художественной ориентации — приближение к психологическому реализму художественников — очень поучительна. Для Моисси, запутавшегося в своих творческих исканиях, влияние здорового, реалистического искусства МХТ было благотворным и освежающим. Оно отвечало гуманистической направленности его творчества, было по его собственному признанию «лучом света, несущим весть о более свободном будущем», оно открывало ему новые «широчайшие горизонты» и «в наше исковерканное время, вопреки всем разрушительным влияниям нашего десятилетия», давало возможность выхода из идейного кризиса и тупика, в котором находилось буржуазное искусство.
В 1921 году в Праге Моисси видел игру артистов МХТ во главе с Качаловым, пересмотрел все их спектакли и был захвачен их глубоким и тонким искусством, свободным от натурализма и стилизации.
Это живое искусство, волнующее своей искренностью и правдой, властно погружающее зрителя в изображенную на сцене человеческую жизнь, так же как и почти десять лет назад, когда он впервые увидел его, целиком захватило Моисси, уставшего от духовной опустошенности, схематизма и надрывной болезненности немецкого послевоенного экспрессионизма. Моисси так охарактеризовал игру артистов МХТ: «Лучше их вряд ли можно уже играть... Они больше не играют людей, они — люд и». Качалов, естественно, привлек особое внимание Моисси. «Качалов показал себя великим художником воспроизведения и великим человеком», — замечает он. В этих словах Моисси заключается глубокое признание искусства Качалова и МХТ, его величайшей правдивости, человечности и простоты, его тонкого реалистического воссоздания жизни на сцене.
«Давно-давно я не проводил такого вечера, как у москвичей, — признавался Моисси, — он был для меня самым большим и глубоким переживанием, целиком захватившим меня; и я могу сказать, — он вывел меня из летаргии нашего времени», ибо «у этих артистов, — сознательно или бессознательно, — наблюдаешь жизнь, действительную жизнь, которая далеко от нас...»41.
Еще более восторженное признание искусства МХТ последовало со стороны Ал. Моисси в 1928 году, в связи с тридцатилетием Художественного театра. «...Создание Немировича-Данченко и Станиславского — Художественный театр — продолжает существовать, живет, живет... Чудесное, прекрасное творение преодолело все, утвердилось в новом мире — живое, движущее, пульсирующее... Триумф театра, заслуженный в Берлине в 1906 году, в настоящее время закреплен, усилен, превзойден: по всему континенту ему воспевают гимны — в Вене, Париже, Лондоне, даже в Нью-Йорке, даже в Азии»42.
Не в этом ли воздействии искусства Художественного театра и русской драматургии, в увлеченности русским искусством вообще (Моисси играл Никиту во «Власти тьмы», Федю Протасова, Прохожего в пьесе «От ней все качества» Л. Толстого, чеховского Иванова, мечтал о роли Тузенбаха) надо искать отчасти причину той лаконической простоты, искренности и глубины переживаний, которые поразили всех видевших Моисси в Гамлете, Освальде и Феде Протасове во время его последних гастролей в Советском Союзе в 1924—1925 годах? В расцвете своего исключительного таланта и зрелого мастерства, во многом освобожденного от ошибок и ложных увлечений его юности, Моисси, по мнению рецензентов, «русифицировал» свою игру. За темой страдания и недостижимостью счастья в «страшном мире» яснее и определеннее стала ощущаться человечность, гуманность, любовь к людям. Все яснее и определеннее в его творчестве начинала звучать мечта о светлом и прекрасном будущем. И именно это наряду с тонкой одухотворенностью, скупой выразительностью театральной формы, отточенностью его мастерства вызвало восторженное признание советских зрителей и деятелей искусства, начиная от представителей так называемого «левого фронта» вплоть до К.С. Станиславского и А.И. Южина, назвавшего гастроли Моисси в Москве «событием русского театра»43. Видевший выступления Моисси в «Гамлете» С. Юткевич вспоминает: «Мы стали свидетелями того, как Станиславский и Мейерхольд, бывшие в молодости соратниками, а ныне — седые вожди двух противоположных театральных лагерей, с юношеской страстностью аплодировали этому актеру, в котором, казалось, они оба видели воплощение своих театральных идеалов»44.
Гастроли Моисси имели не только большое культурное, но и политическое значение. Он был первым из великих западноевропейских актеров, приехавших в «страну большевиков», прорвав «блокаду», установленную капиталистическим миром в отношении Советского Союза. И сам Моисси, страстно мечтавший вырваться из окружающих его противоречий буржуазного строя, переживший крушение «наивных» романтических идеалов, шел к внутреннему приятию «нового мира», как мира справедливости, демократии и свободы. «Новый мир это не Америка с ее старой, европейской культурой, а новая Россия с величайшими достижениями в будущем»45, — говорил он.
В своей статье о кризисе германского театра начала 20-х годов Моисси писал, что театр впал «в состояние безыдейности, несерьезности, полного смешения всех художественных понятий» и в нем «наблюдается небывалое огрубление, какое-то торжество низменных и зверских инстинктов». И одновременно Моисси утверждал, что потому так грандиозны достижения русского театра, потому он «завоевал весь мир», что он работает глубоко, серьезно, вдохновенно и идейно. «...Я глубоко убежден, — говорил Моисси, — что этому идейному, серьезному, талантливому русскому театру принадлежит будущее, принадлежит мировое господство. И я заявляю смело и открыто, что, если бы мне сегодня предоставили выбор: артистом какого театра в мире я бы хотел быть, — то я бы ответил без колебаний: Артистом русского театра»46.
Это не случайно сказанная фраза. Моисси, приезжая в Советский Союз, испытывал особую симпатию ко всему русскому, потому что сочувствовал новому, социалистическому обществу, несущему народам освобождение. Знаменитый актер, албанец по происхождению, тоскующий по родине, он был лишен возможности работать там, так как национального албанского театра еще не существовало, а реакционная монархическая власть, правившая страной, препятствовала любому театральному начинанию. Моисси вынужден был жить в эмиграции, играть на немецком языке в Германии и гастролировать по всему миру. Как верно было отмечено, в образах, созданных Александром Моисси, социальная проблематика давалась в абстрактной этической форме, и это умаляло их реалистическую силу, но «та внутренняя восторженность, с которой Моисси проповедовал со сцены идеи свободы, социальной справедливости, выступал на защиту униженных и оскорбленных... сделали его дорогим для демократического зрителя»47. Вынужденный покинуть Германию, захлестнутую мутной волной нацизма, он умер в 1935 году в изгнании, как «человек без родины», унеся с собой в могилу знаменитое кольцо Иффланда48.
3
М.А. Чехов сыграл Гамлета в МХАТ II в 1924 году49, то есть в тот же год, когда в Москве проходили гастроли Моисси. Это было спустя тринадцать лет после первого выступления Качалова в роли Гамлета в МХТ и через пятнадцать лет после первой постановки «Гамлета» М. Рейнгардтом, в которой Моисси играл заглавную роль.
Если Моисси показал в Гамлете целую гамму нюансов страдания, поднимая лирическое до трагизма, то Чехов превратил «Гамлета» в экспрессионистическую трагедию, исполненную напряженной порывистости и нервности.
Стремясь к трагедии, к героическому, к волевой устремленности и страстности, Чехов пытался порвать с гамлетизмом. У Гамлета — Чехова нет состояния пассивного самосозерцания. Наоборот, ему свойственны острота реакций, взвинченность, нервная возбужденность. Болезненность Гамлета — Моисси Чехов довел до обостренности. Он показал в Гамлете трагически обреченного «лишнего» человека, живущего иллюзией героизма, проникнутого пафосом ужаса, гибели и страдания. В монологе «Быть или не быть» его Гамлет «принимает свой крест, необходимость борьбы. «Вот отчего страдания долговечны!» — этими словами Гамлет принимает страдания и идет на страдания»50, — таков был замысел театра. «Путь Гамлета тернист, труден, а не триумфальное шествие... Именно, тернии-то нас занимают в этой постановке»51, — говорил М.А. Чехов. Не случайно, что основную трагическую ноту, лейтмотив своего исполнения, он нашел в словах «распалась связь времен», которые еще со времен Гёте традиционно считались ключом к поведению Гамлета, но придал им иное звучание и смысл. В одном из протоколов репетиций сказано: «Распалась связь времен!» — это потеря Гамлетом земного фундамента... «Зачем же я связать ее рожден!» — острейший момент осознания миссии. Моление о чаше. Гамлет принимает свой крест». У Чехова — Гамлета, вступившего в непримиримую борьбу с «временем», охваченного глубочайшим смятением, тема «распавшейся связи» звучала особенно трагически.
Несмотря на попытки преодоления пессимизма, чеховский Гамлет исполнен ощущения безысходности. Тема «старчества культуры», тема умирания и трагического распада характерна для творчества М.А. Чехова. Это окрашивает его Гамлет а, познавшего «кризис реальности» и глубокий ужас перед существующим, в мрачные тона пессимизма.
Моисси, «гамлетизируя» Гамлета, сближал его с Освальдом Ибсена. М.А. Чехов пришел к Шекспиру через Достоевского и Стриндберга, то есть тех авторов, которые в становлении экспрессионизма сыграли решающую роль.
Начав со студийных спектаклей МХТ, носящих интимно-психологический характер, проникнутых душевной теплотой, умиленностью, состраданьем к «маленьким», «средним» людям, через отход от реализма Художественного театра и обнажение и подчеркивание запутанных и сложных душевных «загадок» и противоречий, пришел Чехов к индивидуалистическому бунту, надрыву, к истерическим крикам и воплям гибнущего Эрика, раздавленного насмерть грозным и неумолимым ходом событий.
В Гамлете Чехова временами больше от гротеска Эрика XIV, от «страшного мира стриндберговской комедии», чем от Шекспира. Мы видим в нем прежде всего разорванность сознания, расстройство ассоциаций, болезненную надломленность, дисгармоничность, нервозность. Но в Эрике Чехов был цельнее. Здесь же происходило единоборство с внутренне здоровым и сильным образом Шекспира. Гамлета, как и Эрика, Чехов показал «находящимся во власти чуждых ему сил», борющимся с неумолимым роком, показал обреченность, тревогу и судорожные «метания человека, который очутился «между двух миров», но знает и предвидит свой роковой конец»52. Это связывает его трактовку Гамлета со шпенглеровской концепцией «заката культуры», с «апокалиптикой XX века», получившей распространение на Западе идеологией социального пессимизма. «Апокалиптическое сознание», проникнутое пессимизмом по отношению ко вселенной и человеку, предвещающее приближение конца мира, является следствием исторических потрясений, мировых войн и революций. Как правильно отмечалось исследователями, оно проникнуто чувством исторической обреченности и безысходности, «приемлет страдания, конфликт, смерть как постоянное содержание земной жизни; оно предполагает, что демонические силы растут и угрожают поглотить человеческую цивилизацию; короче, это — «кризисное мышление»53.
«Растерзанное одиночество» — так было определено состояние Чехова — Гамлета на одной из репетиций. «На грани двух эпох, с душой, отравленной бесплодными иллюзиями, с пытливой стремительностью бросающийся в водоворот борьбы, стоит этот человек с льняными волосами и печальным, но отражающим волю борца лицом. Не нытье, а отчаянный вопль вырывается из его уст: проклятие звучит в них, как звон рапиры»54, — так описывает свое впечатление от игры Чехова Б.С. Ромашов.
Лицо Гамлета — Чехова бледно, судорожно искривлено. Напряженность трагической маски и душевная израненность и нервозность сочетаются в нем. В чертах — резкость, острота, страстность, экспрессивность. Взгляд его расширенных, полных страдания глаз, то тревожный и тоскующий, то равнодушно блуждающий, то воспаленный и горящий безумием, говорит о напряженности переживаний, о подлинных «муках души». Энергический поворот головы, беспорядочно взлохмаченные пряди светлых волос, резкий, трагический излом бровей подчеркивают «волевую активность» Гамлета — Чехова. В нем нет покорности. Временами это буйный Гамлет. Он весь на контрастах, на резких и внезапных переходах, сменах настроений, на подъемах и спадах. «Он нерешителен, но вместе с тем исполнен решимостью, он застенчив и дерзок, быстр и медлителен, ласков и жесток, бесконечно мудр и бесконечно безумен»55. В нем много лирики, вернее, горького лирического пессимизма. «Необычайно тонко и сильно он проводит сцену репетиции с актерами, когда один безмолвный поворот его глаз, прячущих слезы, незабываемо потрясает»56.
Его движения ритмичны, порывисты, стремительны, неожиданны. Его «старческий», глуховатый, хриплый, срывающийся голос, с больными, приглушенными интонациями получает временами неожиданную музыкальную окраску, переходит от лирической мелодии до вопля, обжигающего вскрика.
У Чехова нет глубокой задумчивости и напряженной трагедии мысли Качалова — Гамлета. Это уже не погруженный в раздумье, исполненный рефлексии и сомнений, а действенный, «динамический», «волевой» Гамлет, лишенный колебаний и мучительной борьбы с самим собой. Поэтому знаменитые места философского размышления и раздумья или не звучали в исполнении Чехова, или же безжалостно сокращались. «Наш Гамлет не рассуждает перед тем как действовать, но постоянно пребывает в стихийной борьбе против всего, что олицетворяет собой короля», который представлялся М.А. Чехову и режиссуре спектакля как воплощение «мирового зла»57. Для Чехова трагедия заключалась в напряженной и отчаянной борьбе человека с роком, в трагической судьбе Гамлета.
Тема мести, глубоко чуждая Качалову, становится у Чехова одним из центральных мотивов. Не философ, а гневный мститель, променявший книгу на меч, — таков его Гамлет, восставший на окружающее его «зло мира». Но «волевое» звучало в нем как истерическое, как надрыв, исступление. Таково качество его активности. Он мечется и рвется, сжимая обнаженный меч в слабой, конвульсивно сжатой, трепещущей руке.
В процессе подготовки спектакля говорилось о «наэлектризованном», «динамическом состоянии» Гамлета, «вознесенного на острие событий», словно «летящего на курьерском» к завершению своей миссии (убийству короля). Уже в первом акте, в момент встречи Гамлета с Горацио, Марцелло и Бернардо, должен был ощущаться «вихрь, взрыв. Каждое слово должно звучать особо в этой атмосфере взрывов».
Чтобы подчеркнуть активную целеустремленность Гамлета, Чехов совместно с режиссурой спектакля сконцентрировал внимание на действенных моментах трагедии, обнажил ее скелет, обострил ее фабулу, усилил напряженность каждой сцены, внес огромные купюры в текст. Сокращая монологи Гамлета и «лишние» сцены, Чехов свел трагедию к трем действиям и четырнадцати картинам, сосредоточил все внимание на личной судьбе принца, на его борьбе с королем Клавдием, отсекая все, что могло нарушить стремительный бег трагедии.
«Для того чтобы ярче выявить и подчеркнуть его (то есть Гамлета. — Н.Ч.) довлеющее значение, — говорится в опубликованной в печати декларации режиссеров спектакля, — нам пришлось сильно сократить текст трагедии, выкинуть из нее все, что могло бы задержать стремительное, вихревое (в этом мы сознательно нарушили вековую традицию в понимании Гамлет а). Уже с середины второго акта он берет в руки меч и не выпускает его до конца трагедии. Активность Гамлета мы подчеркнули также и сгущением тех препятствий, которые встают на пути Гамлета»58.
Здесь, так же как и в «Эрике XIV», спектакль строился на контрастном сопоставлении «мира живых» и «мира мертвых», человеческого и античеловеческого, то есть на контрасте живого, трепетно чувствующего человека и гротескно уродливого, химерического «страшного мира», где действуют бездушные «мертвые» схемы и маски, напоминающие крэговских «полулюдей» — чудовищных обитателей ирреального «золотого дворца». Но в «Эрике XIV», в этом «колючем», разящем и беспощадном спектакле, Вахтангов стремился показать обреченность королевской власти, гибель венценосца, крушение индивидуализма, то есть наполнить абстрактную, гротескную форму спектакля конкретным и волнующим социальным содержанием. Знаменательно, что Вахтангов не был удовлетворен исполнением роли Эрика М.А. Чеховым из-за его болезненной экспрессионистичности и говорил, что сам он мечтает иначе сыграть эту роль.
Чехов сознательно превратил «Гамлета» в апологию индивидуализма и в измененном, модернизированном виде, в сущности, пытался возродить «старую» символику Гордона Крэга, известную нам по «Гамлету» МХТ.
И действительно, есть несомненная связь и преемственность между «Гамлетом» МХТ (1911) и «Гамлетом» МХАТ II (1924). Так, благодаря иронии истории крэговская идея борьбы «духа» с «материей» воскресает вновь через тринадцать лет в трагическом гротеске МХАТ II.
Вновь оживает трактовка Гамлета как «рыцаря идеализма», как «светлого», «духовного начала», борющегося с «силами тьмы», олицетворяющими собой «зло мира» — монументально-гротескным злодеем королем и его присными, Полонием и придворными. Последние, как и у Крэга, лишены индивидуальных человеческих черт, все на одно лицо, с лысыми головами, напоминающими черепа. Они были объединены общим характером костюмов (наполовину серых, наполовину черных, так что при поворотах становились почти невидимыми). Так же как и у Крэга, придворные были даны в виде гротескных уродов, что должно было выразить их внутреннюю дегенерацию, их духовную неполноценность, их рабью сущность. Так же как и в «Гамлете» Крэга, где обитатели «золотого дворца» должны были вызывать у зрителя впечатление животных, придворные в МХАТ II напоминают крыс или мышей, что было подчеркнуто и в их облике, и в движениях, и в том, что в тот момент, когда Гамлет закалывает короля, все они испускают мышиный писк59.
А Осрик, задуманный Крэгом как отталкивающий и жуткий «гротеск смерти», как «смерть с цветком в руке, пытающаяся быть милой и приятной», церемонно приглашающая Гамлета пожаловать на собственные похороны60, разве не напоминают его гротескные персонажи из спектакля МХАТ II? Или, наконец, разве А.И. Чебан, создавший такую яркую и впечатляющую маску злодея Клавдия, не давал «кристаллизации зла», доведенной до условного символа, о чем так мечтал Крэг и что не удалось ему осуществить в «Гамлете» МХТ?61.
Отталкиваясь от идей Крэга, режиссура МХАТ II всячески стремилась подчеркнуть в спектакле агрессивность представителей «мирового зла», «мобилизацию всех темных сил» земли, чтоб тем самым заострить «копье мира, направленное против Гамлета». Поэтому, по мысли создателей этого спектакля, сцены, где «небо арестовано землей», должны были быть пронизаны атмосферой «гротескной жути» и почти гойевской остроты. Из протоколов репетиций видно, что с первых же сцен трагедии, по контрасту с появлением Духа, гротескная тема пирующего короля («гром пушек и литавр») трактовалась не только как «напоминание о жизни земного плана», но как «вопящий в последних судорогах ад», «пляска чертей перед Страшным судом».
Характерно, что на репетициях неоднократно говорилось о бесовском, сатанинском начале противников Гамлета, короля называли Вельзевулом, Полония — бесом и т. д. Так, при обсуждении начала второй картины второго акта отмечалось, что сцена эта не может идти в реально бытовом плане. «...Здесь должна быть «черная месса»; три черта, прыгающих и хихикающих над письмом; садистическое издевательство. Сцена гойевского стиля»62. А в эпизоде, где Гамлет взят под стражу, должны были быть показаны страшные судороги, корчи короля и «особенно тихий, просветленный Гамлет»63.
Вновь, как и в постановке Крэга, в МХАТ II возрождается абстрактный монументализм дворца с его залами, коридорами, площадками и лестницами, вновь как бы повторяется знакомый нам принцип «золотой пирамиды», характерной для крэговского решения второй картины первого действия. Вновь король и королева восседают на высокой площадке, а на авансцене, изолированный от них, также спиной к ним и лицом в публику, сидит ушедший в себя, «озаренный солнцем», траурный Гамлет. Тут же и знакомый нам принцип монодрамы, ибо мир химерических видений Гамлета дается сквозь призму его восприятия как мир его ощущений (не то, что «есть», а то, что «кажется»).
Если для Качалова отвлеченная символика Крэга была органически чужда и вызывала потребность в ее преодолении, то для М.А. Чехова Крэг становился своего рода предшественником и союзником. Гамлет — Качалов стремился постигнуть «тайны бытия», познать сущность жизни в ее глубочайших противоречиях. Гамлет — Чехов, напротив, углублялся в «тайны небытия», хотел проникнуть в мистический, «невидимый мир», находящийся «за гранью» реального, и это также сближает его с Крэгом.
Трактуя тему спектакля как «устремление души Гамлета к Свету», «трагедию о Человеке, переживающем катаклизм», режиссура МХАТ II намечала следующие основные «куски», характеризующие ее замысел: «1) Предчувствие, предощущение катаклизма, 2) Борьба, выполнение миссии, полученной в момент катаклизма, то есть в момент встречи с Духом, и 3) Успокоение через смерть»64.
Таинственный сверхъестественный элемент в «Гамлете», господство потустороннего, «невидимого мира», соединение материального с мистическим, то, к чему, как мы помним, Гордон Крэг так настойчиво и во многом безрезультатно призывал Художественный театр, стало теперь господствующим принципом постановки МХАТ II. Именно здесь уже с первых сцен трагедии режиссура добивалась, чтоб «Дух захватывал и время, и землю», вопреки стремлению всех сил земли «не пустить Гамлета к Духу». Все участвующие должны были чувствовать приближение «духовной грозы», надвигающейся на Гамлета, и ритм тревоги сменяться «ритмом безумия». Король, Полоний, двор, «слепые» в духовном отношении, действующие под влиянием темных демонических сил, по мысли постановщиков, должны были быть охвачены ужасом перед непостижимым, чувствовать «страшную опасность от Духа», смертельно бояться одухотворенного или «по-ихнему» одержимого Гамлета. М.А. Чехов говорил на репетициях, что каждым образом спектакля театр «должен показать существование Духа». И в этом он также перекликался с Гордоном Крэгом.
Крэговский «Гамлет» был тем спектаклем, где в 1911 году Чехов впервые выступил на сцене МХТ («бессловесный «актер» и «оборванец» в сцене бунта в «Гамлете». Никогда я не испытывал такого волнения, как при исполнении этих ролей»65, — вспоминал он впоследствии). «Гамлет» 1924 года, в котором неожиданно прозвучали отзвуки Крэга, был первым спектаклем, самостоятельно осуществленным Чеховым, ставшим во главе МХАТ II.
Несомненная связь между театральным символизмом и экспрессионизмом 20-х годов, наглядно проявившаяся в этой преемственности, обнаруживается и в практике западноевропейского театра. Вспомним хотя бы о бесспорном влиянии принципов Гордона Крэга на работу немецкого режиссера Леопольда Иесснера, осуществившего в начале 20-х годов ряд шекспировских спектаклей, носящих условно обобщенный, вневременной характер, пронизанных чувством экспрессионистской «активности» и ощущением трагической катастрофы. Уже в самом замысле крэговского «Гамлета» встречаются черты гротескной экспрессивности. Так, желая как можно острее донести мысль, что дворец Клавдия — тюрьма, а Гамлет — узник, томящийся в ней, Крэг в одном из своих первоначальных вариантов постановки второй картины первого действия стремился обнажить мучения Гамлета, мир его души.
Для этой цели Крэг предлагал поместить в боковых проходах слуг, следящих за Гамлетом. «Их должно быть много», они одеты в «пыльные костюмы», напоминающие своей формой «инквизиционные одежды» (!), подчеркивая тем самым, что дворец Клавдия — место пытки и страданий Гамлета, для которого «весь мир — тюрьма». По мере развертывания диалога между Гамлетом и королем «слуги сдвигаются осторожно все ближе и ближе к Гамлету, то есть к стенам, которыми отделен от них Гамлет, и стараются зрением и слухом проникнуть сквозь эти стены. Конечно, — замечает Крэг, — этим мы воспроизводим то, что чувствует Гамлет — он чувствует этих надвигающихся на него, подслушивающих и подглядывающих рабов»66.
Разве эта неосуществленная мысль Крэга не предваряет в какой-то мере экспрессионистическое решение «Гамлета»? А эти палачи и мучители, символизирующие для Гамлета «ужас реальности», словно душащие его67, разве не предвосхищают они ту смрадную и тревожную атмосферу злодейств и преступлений, как она показана в спектакле МХАТ II, где Гамлет томится во враждебном ему окружении «бесчеловечности» и уродства? И разве не Крэг является родоначальником той мысли, что, изображая дворец в «Гамлете», режиссер должен экспрессионистически сгустить мрачную, удушающую все живое атмосферу трагедии, — мысли, волнующей и теперь некоторых наших театральных деятелей и кажущейся им такой новаторской.
Можно было бы значительно развить и продолжить сопоставление «Гамлета» МХАТ II с «Гамлетом» Крэга, но, думается, что связь эта уже очевидна читателю. Поэтому я ограничусь лишь одним примером — сравнением двух образов Офелии.
Всячески подчеркивая в Офелии «огромную, интуитивную мудрость», чистоту, стихию любви, делая этот образ возвышенно поэтическим, МХАТ II, казалось бы, вступил на путь, противоположный Крэгу. Но ведь по идее Крэга, начиная с третьего действия, сходя с ума, порывая с земным существованием, Офелия становится прекрасной и приближается к духовности Гамлета. И здесь эти трактовки неожиданно сближаются. По замыслу режиссуры МХАТ II Офелия, сходя с ума, «покидает земной план» и становится «бесплотным духом», витающим «в сферах космоса...»68. «В этой сцене больше всего Духа, которым мы хотим пронизать всю постановку», — говорилось на репетициях. Сближение трактовок обнаруживается и в сцене Гамлета с Офелией после монолога «Быть или не быть». М.А. Чехов и режиссура утверждали, что «сквозное желание» Офелии состоит в том, чтобы спасти Гамлета, всячески помочь ему, облегчить его страдания, жертвуя собой во имя любви, а задача Гамлета — спасти Офелию, предостеречь ее от гибели. («Иди в монастырь!» — это должно звучать: не воплощайся, не упади на землю!»). Взаимное спасение — но ведь тема эта, решенная в этическом плане, впервые прозвучала в «Гамлете» Художественного театра!
Однако, несмотря на общность некоторых моментов «Гамлета» МХАТ II и «Гамлета» Крэга, их различие весьма существенно. Крэг, стремясь к раскрытию «невидимого мира», боролся с «человеческим театром», так как человек в символистском искусстве переставал быть сущностью изображения. Экспрессионизм, особенно в том его «психологическом» варианте, который характерен для МХАТ II и творчества Чехова, развивал тему мучений и гибели человека в «бездуховном», «мертвом» мире. Чехов «обновил» мистицизм Крэга — наполнил своего «Гамлета» иным религиозно-мистическим содержанием, придал спектаклю новое, незнакомое Крэгу звучание, страстность и остроту человеческого страдания.
В спектакле была выдвинута тема борьбы, был показан воинствующий Гамлет. Битва человека с роком, «живого» с «мертвым», гибель человека в этом бездушном, гротескно уродливом мире, где чудовищное «всеобщее» нивелирует, давит, уничтожает личность человека, сложную многогранность его индивидуальности, — вот тема чеховского «Гамлета», превращенного в апофеоз анархического индивидуализма.
Как и Моисси, Чехов сознательно сузил, ограничил масштабы Шекспира. Он тоже концентрировал все внимание на личной судьбе Гамлета, он понял «Гамлета» не только как глубоко личную трагедию, но и как трагедию личности.
Он пытался поднять «личное» до общечеловеческого, космического, метафизического.
Гамлет Чехова обречен. Ему нет места в мире. Он борется, бьется, но в неравной борьбе иссякают силы. Он победил — но ценою жизни, крови, страдания. И, обессиленный, он умирает, раненный насмерть отравленным клинком. Умирает просто и мужественно, с просветленным лицом, под звуки откуда-то несущейся музыки. Трагический круг замкнулся. «Конец, молчание» — эти последние слова Гамлета являются финалом спектакля. Опущены слова Горацио: «Покойной ночи, милый принц!». Совсем нет Фортинбраса, и это противоречило жизнеутверждающей концепции Шекспира. Нет и торжественно-ликующего финала, «апофеоза смерти», как в постановке Гордона Крэга.
«Гамлет» в МХАТ II — трагедия гибнущего индивидуалистического сознания. Естественно, что все оканчивается смертью Гамлета. Но сама эта смерть, как и у Крэга, приобретает характер «очищения» и «просветления», тоже выступая торжеством «духовного» начала, переходом в «новую сферу». «Гамлет принял смерть, как знающий: он перешел спокойно, с ясным сознанием, как бы осторожно сложив с себя свое тело», — писал М.А. Чехов, для которого, по его словам, смерть Гамлета являлась «не только уходом о т с ю д а», но и «вступлением туда»69.
А.Д. Дикий утверждал, что, несмотря на обреченность и душевную надломленность, которые были свойственны его Гамлету, Чехов играл «потрясающе, с какой-то щемящей, тоскующей силой», но даже его исключительный талант не мог спасти положение, и мистический смысл, идейная ущербность спектакля были очевидны. Вспоминая игру Чехова в «Гамлете», которую мне довелось видеть, я должен признать справедливыми эти высказывания Дикого.
Может быть, впервые «мистическое» ощущалось зрителями уже в сцене с Призраком, которой придавалось «значение таинства, «сращивания» потустороннего мира с миром здешним»70.
...Темнота. Откуда-то сверху льющиеся световые лучи падают отвесно на Гамлета — Чехова, как бы «вливаясь» в него. Послушный зову «высшего голоса», с воздетыми к небу глазами и с литургическим жестом скрещенных на груди рук, покачиваясь, словно несомый какими-то ритмическими волнами, излучающимися из невидимого источника, произносил он нараспев слова Духа. Это был Гамлет — «осиянный неким откровением неба»71, — как писалось в одной из рецензий. Духа на сцене не было, но зрителям казалось, что существо отца вселилось в Гамлета, владело им. Гамлет здесь был как бы в состоянии транса, соприкасаясь со «сферой ирреального», к которой стремилась его душа. Впечатление видения достигалось и «качающимся» ритмом тела Гамлета, и колеблющимся светом, и «инфернальной музыкой», таинственными хорами и звуками, которые усиливали мистическое впечатление этой сцены.
Несомненно, многое в «Гамлете» МХАТ II было иносказанием. Чехов и его приверженцы не раскрывали до конца своих карт. Не только обычные зрители, но и часть актеров МХАТ II, особенно те, кто был в оппозиции к религиозно-мистическим «исканиям» не могли себе уяснить действительный смысл идейно-философского замысла спектакля, который был скрыт, зашифрован для непосвященных72. «То, что мы задумываем сыграть, так велико, что «досказать» этого невозможно. Пьесу мы берем, как иероглифы, как знаки, а через них мы сами должны прорваться вверх, в вечность...» — говорил М.А. Чехов в процессе репетиций, призывая исполнителей отдаться во власть потусторонних сил. «...Нужно достичь того, чтобы не мы играли, а через нас играли силы, выше нас стоящие, мы же должны жертвенно отдаваться этим силам»73, — утверждал он.
Некоторых рецензентов смутили «элементы готики», «средневекового костюма и средневековой живописи», которые легли в основу оформления «Гамлета» в МХАТ II. И действительно, величественная монументальность архитектурных форм, мотив витража, вертикализм удлиненных, перспективно суживающихся, как бы не имеющих конца гигантских окон — все это создавало временами впечатление готического собора с его устремлением ввысь, грандиозностью масштабов, ощущением бесконечности. Мотив готического окна, витража, оказался лейтмотивом оформления спектакля. То это было гигантское круглое светящееся окно, напоминающее знаменитую «розу» готической церковной архитектуры, то, как в «Мышеловке», целый ряд длинных окон с цветным изображением закованных в латы рыцарей, в три раза превышающих реальные размеры человеческой фигуры74.
Показательно, что стремление выявить «готическое» в «Гамлете», вскрыть «средневековое» в Шекспире не было изобретением МХАТ II, а было уже достаточно распространенным за рубежом в пору, когда театр ставил «Гамлета». При этом понятие «средневековье», как это было и в МХАТ II, лишалось своего конкретно-исторического содержания. В постановке Чехова это «духовное» средневековье трактовалось как абстрактная среда, выражающая ирреальный, мистико-философский смысл его замысла. «Для того чтобы сгустить краски, нам показалось необходимым перенести действие «Гамлета» в средневековье», — говорится в цитированной уже декларации режиссеров спектакля. Стремясь выявить в постановке «дух готики», режиссура во главе с Чеховым пользовалась историей произвольно, лишь как материалом для выражения самостоятельных субъективно-творческих построений, заявляя: «Мы берем из средневековья только то, что еще ярче подчеркивает основную линию борьбы издавна противостоящих друг другу начал: героического, светлого — и консервативного, темного».
Это устремление к «готическому» приоткрывает некоторые особенности постановки «Гамлета» в МХАТ II. Оно имеет своим источником отрицание реалистической сущности искусства Шекспира, которое было характерно для воинствующе-идеалистических течений буржуазной предвоенной и послевоенной, главным образом немецкой, философской и искусствоведческой мысли. В многочисленных сочинениях, начиная с нашумевшей книги Вильгельма Воррингера «Проблема формы в готике», вышедшей в год постановки «Гамлета» Гордоном Крэгом, вплоть до книги Карла Шеффлера «Дух готики»75, выпущенной за год до того, как был осуществлен «Гамлет» МХАТ II, всюду мы находим общую тенденцию — проекцию современности в историю, раскрытие экспрессионистической сущности средневековья, которое мыслится как бы прообразом «современного» искусства и миропонимания, сближение мистики экспрессионизма с религиозным спиритуализмом готики. В готике теперь ищут источник мистических откровений, религиозного экстаза, «чистой духовности», которых нет в жизнеутверждающем, полном ощущения счастья бытия «телесном», насквозь земном реалистическом искусстве Ренессанса и античности, проникнутом «доверием к миру». Если в классике нет «ничего потустороннего и относительного», то, по мысли Освальда Шпенглера, в готике создается «нечто предназначенное не для телесных глаз... чудесная трансцендентальность, все пространство, вся бесконечность». В готике «раскрылся новый мир». «Здесь природа расширяется в необъятные дали и в безмерные действия при помощи пространства и времени, которые проявляются в... идущих облаках, исчезающих горизонтах, глубокой ночи, бесконечном эфире и над всем этим в одном всеобъемлющем имени: «бог»76.
Все антиматериальное, иррациональное, сверхчувственное гиперболизируется. Напряженность внутренних противоречий и конфликтов, «формы беспокойства и страдания», трагическая разорванность сознания, ужас человека перед миром, выдвижение на первое место страдания как основного содержания искусства — разве все эти элементы «готического» мироощущения, увиденные экспрессионистами в средневековье, не стоят в непосредственной связи с Чеховым — Гамлетом и постановкой этой шекспировской трагедии в МХАТ II? Я не берусь утверждать, что Воррингер или Шеффлер оказали на Чехова прямое воздействие. Но элементы сходства и общей идейной направленности воззрений несомненны. Не в этой ли общности тенденций надо искать источник «готического» оформления спектакля и замену образов символами, и уродливый гротеск безжизненного «мира материи», преодолеваемого «активностью духа», «вихревым», динамическим устремлением Гамлета? «Все превратилось в нечто жуткое, фантастическое, за видимостью вещей затаен их искаженный образ, за их безжизненностью — жуткая призрачная жизнь, и все настоящее превращено в гротеск» — эта характеристика готического искусства, данная Воррингером, не применима ли она и к «Гамлету» в МХАТ II, превратившему реальный многогранный и красочный мир Шекспира в призрак, в душную камеру антропософии?
М.А. Чехов был членом антропософического общества, видел в антропософии «современную форму христианства» и целиком находился во власти цепко захватившего его в свои сети реакционного учения немецкого философа Рудольфа Штейнера. «Гамлет» для Чехова стал программным спектаклем, утверждающим «новый курс» театра. «Я прежде всего изгнал из репертуара антирелигиозные тенденции и уличную драматургию и в противовес им решил поставить «Гамлета». Полтора года продолжалась работа над этой трагедией и мне удалось осуществить в ней кое-что из моих заветных театральных мечтаний»77, — писал Чехов в своих воспоминаниях, изданных за рубежом. Этим спектаклем, созданным во многом в соответствии с «богостроительскими» идеями Штейнера, М.А. Чехов не только стремился к «посрамлению» материализма, но, по его собственным словам, боролся с проникновением в театр «пьес агитационного и пропагандистского характера», реалистически изображающих недавние события революционных лет и современную советскую действительность. Не поняв подлинного смысла великого исторического переворота, произошедшего в судьбах мира, созидательной, а не только «разрушительной» силы революции, М.А. Чехов не верил в силы рождающегося социалистического общества, испытывал страх перед «коллективизмом», якобы уничтожающим, нивелирующим личность человека. И это в итоге логически привело его к эмиграции. Однако искусство этого сложного, мятущегося художника совмещало в себе кричащие противоречия и контрасты. Даже такой идейный противник Чехова, как Дикий, утверждал, что «рядом с мистикой и надрывом, рядом с путаницей идей и чувств гнездилась в этом талантливейшем актере тяга к здоровому искусству, к большому миру, кипящему за стенами театра...»78
В мою задачу не входит подробный разбор ни исполнения Гамлета М.А. Чеховым, ни постановки МХАТ II. Важно было лишь показать, что в этом претендовавшем на «современность» и новизну спектакле жили отзвуки крэговского «Гамлета». Мы видим, что тень Крэга присутствовала и здесь, в этом абстрактно-философическом «Гамлете», создатель которого стремился вновь выразить «откровение вещей невидимых», раскрыть «потустороннее» и «таинственное» в Шекспире. Очевидна связь идейного замысла спектакля с современной ему немецкой философско-эстетической мыслью, которая через реакционное, религиозно-мистическое течение антропософии получила свое непосредственное претворение в этом спектакле.
Все это явилось преградой к Шекспиру, привело к искажению духовного смысла «Гамлета», к превращению, как у Крэга, живых и ярких человеческих характеров в схематические и абстрактные маски.
Не случайно, что Станиславский с такой резкостью и категоричностью отверг «гротеск» МХАТ II, увидя в нем не только устаревшую эклектическую, враждебную реализму форму, но и реакционную «философию гротеска». В письме, написанном после премьеры «Гамлета» в МХАТ II, С.В. Гиацинтова отмечает, что Станиславский по окончании спектакля «не встал, когда стоял весь театр», и был «весь искаженный, угрюмый, злой...»79. Я сам слышал от Станиславского в мае 1935 года резкую и уничтожающую оценку этого «Гамлета» и «гротеска МХАТ II», резкую до жестокости. В ней чувствовалась боль и обида за своих бывших учеников, за их «измену реализму», за отход от органических законов творчества. И хотя Станиславский не одобрял трактовку Гамлета Чеховым, он все же считал, что Чехов был единственным живым и трепетным человеком в этом «ложном» спектакле масок и символов и чем то по-настоящему мог волновать зрителя. Вообще об М.А. Чехове Станиславский говорил с большой горечью и любовью, как о талантливейшем, но «свихнувшемся» художнике, трагически запутавшемся в своих исканиях.
4
Но если в «Гамлете» МХАТ II идеи Крэга получили свое дальнейшее развитие, то спустя восемь лет, в новом «Гамлете», поставленном Н.П. Акимовым в театре имени Евг. Вахтангова80, они породили свою собственную противоположность, свое самоотрицание. Вместо мистерии, как это было у Крэга и у Чехова, «Гамлет» в постановке Акимова неожиданно прозвучал комедией, местами даже балаганом и фарсом. Борясь с «призраками прошлого», срывая покровы с идеалистических толкований «Гамлета» и, казалось бы, обнажая подлинного Шекспира, свободного от всех последующих напластований и искажений, Акимов, охваченный пафосом ниспровержения традиций, сам пал их жертвой, так как его «эпатирующий» «Гамлет» был в значительной степени порождением полемики с идеалистическими концепциями, которые оказывались, по существу, как бы вывернутыми наизнанку. Так идеи Гордона Крэга через акимовского «Гамлета» неожиданно вновь дали о себе знать в нашем-театре.
Хотя об акимовском «Гамлете» много писали, спорили, обсуждая спектакль внутри и вне театра, вплоть до устройства специальных диспутов в Комакадемии и Всероскомдраме, но тем не менее мало кто знает, что полемический удар этого «Гамлета» был направлен не только против Гёте, не только против освобождения «Гамлета» от гамлетизма, о чем так много и страстно говорилось, но и непосредственно против «Гамлета» в Художественном театре и в МХАТ II, что прошло почти незамеченным. Само по себе это было понятно и оправдано, но, к сожалению, в азарте полемики Н.П. Акимов перегибал палку, отказываясь не только от философии Крэга и М.А. Чехова, но и от философии Шекспира.
«Мы ставили себе задачей в первую очередь дать оптимистический, бодрый и жизнерадостный спектакль «Гамлета», за которым установилась такая дурная слава мрачной, мистической, символической и философски-реакционной пьесы», — вспоминал Акимов через три года после премьеры, утверждая, что подобная оценка пьесы имела своим основанием ряд причин, одной из которых «была память о постановке ее в МХАТ I (1911 год, режиссер Гордон Крэг) и в МХАТ II, где роль Гамлета исполнял М.А. Чехов, определивший здесь постановочный замысел»81. Еще до выпуска спектакля в одной из многочисленных статей, разъясняя смысл и идейную направленность будущей работы, Акимов подчеркивал свое несогласие с тем, что «в культурных театрах последнего времени» взаимоотношения Гамлета с окружающими понимались как «борьба духа с материей», «страдание духа, погруженного в материю» (Крэг), или как борьба «начала светлого с темным» (МХАТ II)82.
Акимов, не видевший крэговского спектакля, тем не менее имел возможность изучить замысел английского режиссера по той хотя и не полной рукописной копии записей бесед Крэга при постановке «Гамлета» в МХТ, которая хранилась в личном архиве у Е.Б. Вахтангова83. Идеи Крэга предстали перед Акимовым во всей их обнаженности, вызвали в нем резкий протест и осуждение. Он не без оснований отмечал: «Все то ценное, что имелось в постановке Крэга (в ее формальных моментах), никакого отношения к «Гамлету» не имело», что же касается до самой трактовки «Гамлета», то Крэг здесь со свойственной ему остротой доводил до абсурда один из многочисленных вариантов чуждых нам «идеалистических импровизаций» по поводу этой шекспировской трагедии84.
Еще более резкое осуждение вызвала у Акимова постановка «Гамлета» в МХАТ II, «глубоко порочная» уже тем, что «она навязывала Шекспиру многое такое, что пристало бы, скажем, Метерлинку, но чего не могло быть в произведении, написанном триста лет тому назад таким здоровым, жизнерадостным и полнокровным писателем, как Шекспир»85. Акимов верно почувствовал преемственность этого спектакля от идей Крэга, когда утверждал, что постановка «Гамлета» в МХАТ II, «продолжающая, по существу, крэговскую линию — борьбы духа с материей, — идеологически явилась крупным шагом назад»86.
Противопоставляя себя «надмирной» традиции понимания «Гамлета», отвлеченной борьбе «символов» и «начал», Акимов, вопреки Крэгу и М.А. Чехову, хотел видеть в этой трагедии, как и в других произведениях Шекспира, реальную борьбу живых людей, действующих в конкретной исторической обстановке, а вовсе не «символическое произведение», как это можно было думать, основываясь на спектакле Художественного театра и в особенности МХАТ II, с его «полупереселенными душами, нарушавшими все законы жизни, химии и социологии».
В этой полемике, несмотря на допущенные крайности, приведшие Акимова в итоге к целому ряду заблуждений, заключалась верная в своем исходном пункте мысль о необходимости реалистического подхода к «Гамлету».
«Замок Гамлета — это весь мир», — писал когда-то Гордон Крэг.
«Весь мир — тюрьма», — досказал Чехов мысль Крэга. И вот на мрачной сцене МХАТ II среди «сорока лысых» придворных — серых шуршащих мышиных теней — мечется мистический Гамлет — Чехов», — читаем мы в одной из рецензий, отмечавших, что в театре имени Вахтангова «абстрактный мир» прежних постановок «Гамлета» приобрел, наконец, «историческую, социальную и территориальную оседлость»87.
Вспомним, что Станиславский в своем первоначальном, самостоятельном проекте «Гамлета», который он должен был осуществить в МХТ, если бы постановку не передали Крэгу, предлагал ставить эту трагедию реалистически и специально направил художника В.Е. Егорова в Данию и северную Германию.
чтобы на месте изучить эльсинорский замок и художественный» и бытовой материал эпохи Ренессанса и позднего Средневековья. Вспомним, что и Немирович-Данченко, относивший время действия «Гамлета» к средним векам, настойчиво указывал актерам МХТ в одной из бесед 1911 года, что «нужно идти от эпохи», что в «Гамлете», как и всюду у Шекспира, «густота красок эпохи» необходима. И наконец, тот же Немирович-Данченко вновь, через тридцать лет, мечтая осуществить постановку «Гамлета» в МХАТ, утверждал, что «Гамлет» неотделим от быта, от природы, от атмосферы эпохи, что люди в этой суровой, мощной и поэтической трагедии, где Шекспир «оголенно показывает» человеческие страсти, должны вести себя совершенно реально, а не героически-приподнято, как это обычно бывает в театрах.
Акимов был одним из первых режиссеров, пытавшихся утвердить в «Гамлете» «земного, кровяного и мускульного» Шекспира. Не отвлеченный дух, не маски и символы, а люди с плотью и кровью, живущие своей, насквозь земной, грубой и страстной жизнью, стали предметом его изображения. Неожиданным контрастом крэговскому финалу, где появлялся идеализированный Фортинбрас-небожитель в сопровождении «небесного воинства», была картина, которую мы увидели в постановке Акимова: рушились с шумом деревянные ворота, и закованный в латы Фортинбрас въезжал на коне на помост с валяющимися на нем трупами, как кондотьер-триумфатор, дерзкий и смелый захватчик, — фигура, столь характерная для эпохи Ренессанса.
Многое в этом спектакле было новым, смелым и интересным. Но в то же время «Мир с большой буквы», который был показан в предшествующих спектаклях «Гамлета», превращался благодаря усилиям постановщика в маленький «мирок феодала». Эльсинор был снижен до быта, и простак Полоний, позвякивая ключами, вел зрителя «по дворам, залам и кабинетам замка, заводя его даже в «мыльню», в которой Гамлет — незадачливый, хотя и старательный ученик Макиавелли, — занимается своим туалетом»88.
Относя время действия к XVI столетию, сделав «Гамлета» почти современной Шекспиру пьесой, Акимов взял за основу севернонемецкий быт начала XVI века (так как непосредственно о Дании почти не имелось материалов). Он искал предельной конкретизации постановки, хотел передать пеструю картину быта эпохи. Он стремился к «живописной иллюстрации» данного быта, увиденного им в историко-социологическом ракурсе. Так, после напряженных и страшных сцен третьего действия, происходивших в замке, ему хотелось, чтобы в сцене прохождения войск Фортинбраса (сокращенной в окончательной редакции спектакля) по контрасту давался простенький, деревенский пейзаж, полуразрушенная войной «настоящая» изба, крытая соломой, с торчащим на заборе глиняным горшком. И эта заброшенная изба, носящая следы разрушений, сделанная под впечатлением брейгелевских и дюреровских гравюр, и труп мужчины, висящий на колодце, — все это должно было передать суровую и правдивую атмосферу бедствий войны, вводить зрителя в реальное ощущение эпохи, досказать недосказанное Шекспиром.
«Объектом нашего изображения сценического произведения был не Шекспир, а явления живой жизни, живая действительность... Мы имеем с Шекспиром один и тот же объект изображения — XVI столетие... Мы с небес спускаемся на землю...» — говорил главный помощник Акимова по постановке «Гамлета» Б.Е. Захава, защищаясь от резких, а порой и уничтожающих нападок, последовавших внутри театра сейчас же после первого, предварительного, публичного показа и продолжавшихся и после выпуска спектакля, когда расхождения акимовского «Гамлета» с шекспировским предстали, наконец, со всей резкостью и непреложностью.
В своем полемическом задоре, применяя по преимуществу метод доказательства от противного, Акимов, чтобы преодолеть отвлеченный идеалистический подход к «Гамлету», оживить условное безмолвие и пустынную мрачность крэговского Эльсинора, пытался всячески расширить границы произведения, произвольно меняя место действия отдельных сцен, показывая замок то с парадно торжественной стороны, то, наоборот, «с изнанки», во всей его буднично-интимной откровенности, уснащая сценическое действие целым рядом неожиданных, остроумных, а порой назойливых и ненужных бытовых подробностей и эксцентрических натуралистических деталей.
Акимов хотел, чтобы наряду с актерами в «Гамлете» участвовали живые лошади, собаки и даже... поросенок! Это обстоятельство невольно вызывает в памяти остроумный и злой фельетон В.М. Дорошевича о том, что будто бы во время споров с Гордоном Крэгом Станиславский настойчиво и упрямо просил только об одном: выпустить на сцену живого датского дога «для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании»89. И этот анекдот, придуманный Дорошевичем, неожиданно, через двадцать лет, стал одним из боевых и программных моментов в постановочном плане Акимова, заключавшем в себе не только воспроизведение картины эпохи, но и сознательный вызов существовавшим до него «интеллигентским» гамлетовским традициям и, как это мы увидим в дальнейшем, намеренный иронический и «разоблачательский» подход к самой теме и к образам произведения.
Для расширения «социальной среды» в «Гамлете» Акимов стремился ввести целый ряд придуманных им пантомимических сцен и бытовых эпизодов, вроде ночного дозора ландскнехтов в первой сцене, картины религиозной процессии во втором акте, пантомимы пира в четвертом и др. Он хотел создать полную живописности и богатства действия, жизнерадостную, яркую и шумливую картину жизни XVI столетия, где орудует герой веселой и остроумной комедии — Гамлет без гамлетизма, стремительный в своей деятельности, и где наряду с так называемыми «официальными элементами» истории присутствует и ее плебейский, демократический элемент, так ярко изображенный на картинах нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего, «мужицкого Брейгеля», как его называли.
Исследователи не раз указывали на соответствие народных сцен у Брейгеля и у Шекспира, и поэтому в данном случае сам факт обращения к Брейгелю был вполне закономерным и уместным. Но дело заключалось в том, как это «брейгелевское» использовалось Акимовым.
«...Со второго акта хотелось бы более отразить социальные особенности XVI века, — утверждал в своем постановочном плане Акимов. — Нам думается, что если учтем наличие Брейгеля, то очень трудно обойтись в XVI веке без нищих, без калек, без сумасшедших». При этом ни грубоватый и сочный юмор, ни острое наблюдение жизни, ни передача картины нравов — так, как ее ощущал и Шекспир, не привлекала постановщика, увидевшего в Брейгеле по преимуществу лишь забавные, сатирические и уродливые черты, которые он усиливал и подчеркивал. Если Брейгель, несмотря на свой внешний натурализм, поднимал повседневное до реалистического гротеска и вскрывал в своих «слепых» не только смешное, но и глубоко человеческое и трагическое, то у Акимова брейгелевская тема должна была звучать пародийно, не как раскрытие «души народа», а как забавный, почти эксцентрический «монтаж аттракционов», приобретавший порой иронически современное звучание.
Так, по первоначальному плану Акимова второй акт «Гамлета» должен был начинаться с выхода религиозной процессии, «во главе которой идет небольшая кучка монахов, а сзади вся процессия состоит из всякого рода ужасных, причудливых нищих и калек, которым приходилось выдумывать уродства, чтобы извлечь больше доходов. Все эти нищие и калеки идут со своими музыкальными инструментами — колокольчиками, свистульками, составляя страшную процессию, которая, проходя по просцениуму, театрализуется, музыка, сохраняя основной мотив, приобретает чарльстоновские признаки, и все это фокстротное и чарльстоновское начало передается через пляску святого Витта этих нищих».
Далее выясняется, зачем была нужна Акимову эта странная процессия, какое отношение она имела к «Гамлету». Оказывается, что последний нищий, «наиболее причудливый и страшный калека», отделяется от процессии и подъезжает на тележке к дому Полония. Обнаруживаются странные вещи: это не нищий, не безногий калека, а симулянт, «тайный агент» Полония, который «работает», выслеживая кого-то. Этот детектив XVI века дает нам новые неожиданности. Оказывается, что перед нами не кто иной, как Рейнальдо, которого Полоний заставляет следить в Париже за Лаэртом. Полоний кончает разговор, и Рейнальдо вновь принимает свой образ калеки, но Полоний вспоминает, что не договорил, и смешная сцена продолжается. Чтоб усилить комизм, это «переключение» происходит подряд шесть раз. Но Акимову этого еще не достаточно. Вдруг раздается «страшный визг поросенка. Это их отвлекает от разговора. Рейнальдо раскатывается по просцениуму и попадает под ноги к Офелии», которая пришла делать первое донесение Полонию. «В середине диалога появляется Гамлет, который грубо, гротескно разыгрывает сумасшедшего». Все это, по мысли постановщика, должно было проходить комедийно заразительно. Гамлет «бежит в явно подчеркнутом сумасшедшем виде, волоча поросенка и бурно и весело разыгрывая сумасшедшего. Полоний страшно пугается, и они с Офелией решают бежать во дворец, чтобы рассказать о том, что случилось»90. В спектакле сцена сумасшествия Гамлета проходила следующим образом: на дворцовом дворе слуги выбивают ковры, другие идут с рынка с корзинками, наполненными провизией, третьи прогуливают живых лошадей, солдаты дерутся и т. д. На фоне этой жанровой сцены вдруг появляется Гамлет в белой рубашке до колен, с кастрюлей на голове, с морковью в руках. За ним бегут мальчишки.
Остановиться на изложении замысла этой сцены стоило потому, что он наиболее обнаженно показывает, как социологический комментарий режиссера, стремление его расширить «социальное окружение» Гамлета перерастали границы, становясь порой поводом для самостоятельного театрально-эксцентрического представления. «Отурандоченный «Гамлет» — так писали об этом спектакле после премьеры. И это было во многом справедливо.
Иронически разоблачительский показ событий, данных на фоне «сочного реализма» XVI века, превращал трагедию Шекспира в веселую авантюрную комедию с занимательной интригой, где ради стремления к «современности» и «материализации» пародировались и тема произведения и смысл ее образов. И это коренным образом отличало акимовского «Гамлета» от того историко-бытового подхода к Шекспиру, который был свойствен ранним постановкам Художественного театра, где воссоздание жизни во всей ее исторической и бытовой конкретности должно было помочь театру психологически раскрыть эпоху и самое произведение.
Уже доклад, сделанный Акимовым в мае 1931 года на художественно-политическом совете театра, то есть за год до выпуска спектакля, внушал справедливые опасения, «как бы под тяжестью... бытовых и иных деталей постановки... не оказалась погребенной сама трагедия о датском принце; как бы за ржанием выводимых на сцену лошадей (трех живых лошадей!), за лаем прогуливающихся на сцене собак (десятка живых собак!), за визжанием поросенка в руках у Гамлета, за фокстротирующими калеками и нищими (из пантомимы второго действия) не стушевался бы сам герой шекспировской драмы, именем которого она для чего-то все-таки названа»91.
Как же был задуман и осуществлен главный образ трагедии на сцене Вахтанговского театра, ставший предметом такой страстной и ожесточенной полемики, образ, имевший своих немногочисленных приверженцев и защитников и огромное количество противников, увидевших в нем искажение Шекспира и издевательство над сущностью Гамлета?92
Несмотря на неожиданность и эпатирующую остроту, этот новый и оригинальный образ, созданный постановщиком, явился, по существу, повторением старой, так хорошо нам знакомой формулы Гордона Крэга — «борьба духа с материей», превращенной в свою собственную противоположность.
Крэг в образе Гамлета всячески подчеркивал торжество «духа» над «материей», стремясь к ее «преодолению». Теперь, в постановке Акимова, мы видим обратное — победу земного, плотского над духовным, стремление к посрамлению всего возвышенного и идеального, к устранению из спектакля психологического и философского содержания как чего-то лишнего, мешающего, даже «опасного» и «криминального», что будто бы целиком «привнесено» в эту трагедию XIX веком, заслонившим от нас «подлинного Шекспира».
Акимов всячески стремился избавить Гамлета от всех философско-этических и психологических «углублений», для того чтобы придать его образу здоровое, земное, чувственное начало, которое, по его мнению, должно было наконец показать Гамлета «ценным экземпляром человеческой породы», освободив этот образ от многовекового «гнета идеализма».
«Если мы возьмем тот эстетический тип, который был в XIX веке, если мы возьмем бледного юношу, который не обедает, грустит, ходит с бледным лицом и потухшим взором, — говорил Н.П. Акимов в 1931 году, — то мы прежде всего сделаем его нам чуждым, непонятным и смешным с первого раза»93.
Усвоив у Акимова его негативный подход к произведению и поверив, что XIX век «прошелся карательной экспедицией» по «Гамлету», Б.Е. Захава утверждал вслед за постановщиком, что XIX век «перекроил, извратил Шекспира и «Гамлета», чтобы показать самих себя в образе Гамлета... Поэтому и получился бездейственный, неспособный мечтатель, бледный юноша», то есть «биологически нездоровая личность»94.
«Я согласен с Акимовым, что с Гамлета нужно полностью совлечь тона мистики, пессимизма, интеллигентщины — все то, что было типично для всех трактовок XIX века. И попытка сделать его живым, полнокровным человеком, с одышкой, любящим выпить, подраться на шпагах, облапить деревенскую девку должна приветствоваться нами»95, — в полемическом задоре утверждал В.В. Куза.
Так возник на сцене театра имени Вахтангова этот «биологически здоровый» Гамлет, наделенный «предрассудками своего века, но не последующих веков», — низенький, коренастый, коротконогий, с русой бородкой, с брюшком, широкими плечами и толстыми ляжками, такой «земной», полнокровный, «фламандский», по внешности напоминающий более Фальстафа, чем Гамлета.
Таким изобразил его на эскизе Акимов, таким, во многом выполнив задание постановщика, играл его А.О. Горюнов, яркий комедийный актер, взятый как материал, наиболее подходящий по типажу, по своим физическим данным к новой трактовке роли и наиболее непригодный для изображения на сцене традиционного облика траурного скорбного юноши.
«Тучен и страдает одышкой» — эти слова текста определили внешний характер Гамлета Акимова и Горюнова. Больше того, по своему внешнему облику он скорее бюргер, чем принц. «Я пытался использовать внешность моего Гамлета как психологическую предпосылку для его иронического и даже озлобленного отношения к окружающим, для того чтобы Гамлет чувствовал бы себя отчасти как бы «гадким утенком» в породистом феодальном обществе»96, — утверждал Горюнов. И это было осуществлено в спектакле с намеренно эпатирующей остротой, как вызов «традициям». Чтобы понять это, вспомним, с каким негодованием отверг в свое время Моисси версию о тучности Гамлета, ибо, по его мнению, Гамлет должен был быть обязательно красив и страстен и уже поэтому он никак не может быть толст. «Если бы Гамлет был ленивым, тучным, хладнокровным, то все было бы гораздо проще»97, — восклицал он. И сколько Гамлетов XIX и XX веков могли бы повторить его слова! Вспомним хотя бы бледного, худого испепеленного страстью Гамлета — Чехова, мучительно сознававшего, что ему, как актеру, так и не удалось воплотить на сцене во всей полноте тот одухотворенный образ, который он видел в своем воображении: «...замечательное лицо... с особым желтоватым оттенком кожи, с удивительными глазами и несколькими чудесно расположенными морщинками...»98. Вспомним, наконец, какое негодование вызвало у Аврелии, так мечтавшей о поэтическом чернокудром и юном принце, предложение Вильгельма Мейстера играть Гамлета белокурым и дородным. «Вы разрушаете все мои представления вашим тучным Гамлетом! — вскричала она. — Не изображайте нам вашего полнотелого принца! Дайте нам лучше какое-нибудь qui pro quo, которое бы нас пленяло и трогало...», так как в роли Гамлета «мы требуем очарования...»99.
Гамлет у Акимова и Горюнова — грубый весельчак, шутник и озорник, обладатель хорошего желудка, крепких мускулов и твердо поставленной перед собой практической цели. Вместо психологии — физиология, вместо слабости — сила, вместо внутренних колебаний и сомнений — уверенная расчетливость и действенность. Он осторожен и хитер, остроумен и зол, предприимчив и изобретателен, грубоват и ловок. Он уверенно и крепко стоит на своих коротких и сильных ногах, он ходит раскачивающейся, упрямой походкой, смеется сочным раскатистым смехом. Он весь человек практики, весь насквозь в земном, материальном. Это Гамлет, который не философствует и не мучается, а «ест, пьет, спит», чтобы по мысли постановщика стать наконец реалистически убедительным и понятным современному зрителю. Ведя намеренную и упорную борьбу с Гамлетом-философом как с чем-то «опасным» и будто бы «чуждым для современности», Акимов всячески нажимал на его «биологическое здоровье». «...Если мы говорим, что Гамлет пьяница, то не имеем в виду Гамлета-алкоголика, а просто живого человека, который не занят вопросом «Быть или не быть»100, — утверждал он.
Как и Акимов, Горюнов в работе над образом Гамлета начинал с изучения эпохи XVI столетия. Замечательные по своей выразительности, мощи и силе портреты кисти Гольбейна, Дюрера, Кранаха и других немецких художников позднего Возрождения, облики деятелей XVI века — Ульриха фон Гуттена. Филиппа Мелантона и в особенности Франца фон Зиккингена, лицо которого по признанию самого артиста казалось особенно близким задуманному им образу — захватили его воображение101.
В произведениях изобразительного искусства XVI века, в картинах Брейгеля и Гольбейна, в литературе Возрождения режиссура спектакля, так же как и А.О. Горюнов, не увидела «сомнений, колебаний, раздумья, немощи, импотенции к действию, неспособности что-либо совершить», а, напротив, «страстное, энергичное, бешеное действие»102.
Стремясь воплотить «образ человека того бурного, мятежного, неустойчивого, переломного века», Горюнов вслед за Акимовым нигилистически отвергал всю существовавшую до него театральную традицию, как западноевропейскую, так и национальную, ибо, по его мнению, все предшествующие русские Гамлеты (все — от Мочалова до Качалова!!), несмотря на всю их несхожесть, будто бы давали вариацию на одну и ту же тему: Гамлет — носитель гамлетизма.
Упрощенно понимая современный подход к классическому произведению как иронию над прошлым, как разоблачение прошлого, Горюнов всячески стремился освободиться от «гипноза сценической традиции» и зачеркивал одним махом все целиком «проклятое наследие XIX века».
Показательно, что из современных ему Гамлетов особенно резкой и уничтожающей критике Горюнов подверг Моисси и М.А. Чехова.
«У Сандро Моисси Гамлет — «странный человек». Несколько чудаковатый, неуравновешенный маньяк одной идеи. Зритель его жалеет, но не заражается его странными, особенными переживаниями», — негодовал Горюнов, которому была чужда и непонятна психологическая усложненность и трогательная беспомощность этого, по-видимому, с его точки зрения, «биологически неполноценного» Гамлета.
Еще более резко и безоговорочно зачеркивал Горюнов Гамлета — Чехова, в котором видел только больного дегенерата». «Его болезненная рефлексия, подчеркнутая надрывность чужды нашему зрительному залу и попросту вызывают отвращение»103, — писал об этом образе Горюнов. «И если говорить о влиянии Гамлета — Чехова, — утверждал Горюнов, — так только лишь в том смысле, что положительная струя, весьма сильная в акимовском замысле по линии образа Гамлета, была мной ощущаема, как направленная против чеховского образа, созданного мастером, находившимся в состоянии величайшей идейной депрессии»104.
Каково же было отношение Горюнова к Гамлету Качалова, бывшему, как мы знаем, самым глубоким и значительным русским Гамлетом первых десятилетий XX века? Это отношение было более сложным и противоречивым, чем отношение к Гамлетам Чехова и Моисси. И, несмотря на то, что в своей работе Горюнов вслед за Акимовым практически отрицал Гамлета — Качалова, делая все «наоборот» По сравнению с ним, он в то же время в глубине души не переставал интересоваться им. «Я сам знаю, что я для подлинного Гамлета никак не гожусь, и то у меня были все время какие-то позывы изображать Качалова, словом, какого-то приличного Гамлета»105, — откровенно признавался впоследствии Горюнов. «Если Горюнова вести, чтобы он играл в плане Качалова, то зачем тогда Горюнов?» — таков был вывод после первого же чернового прогона «Гамлета» в феврале 1932 года. Так призрак Гамлета — Качалова, который в минуты сомнений являлся Горюнову, пробуждая в нем стремление к человечности, благородству, психологической углубленности, пугал режиссуру, всячески стремившуюся оградить его от этой «страшной опасности» и вернуть на путь истины.
Горюнов видел Гамлета — Качалова только в сценах второго акта, показанных на юбилейном спектакле МХАТ в 1928 году. «В моей работе над ролью мне часто приходилось вспоминать и желать хотя бы в какой-то мере овладеть замечательным мастерством Василия Ивановича, в котором ему сейчас несомненно нет равных, мастерством умения думать на сцене и с предельной выразительностью и убедительностью доносить как бы созревшие тут же, на сцене, мысли до зрителя»106. Он восхищался образом Гамлета-мыслителя, созданным Качаловым, находил его «изумительным по своей глубине и тонкости ума», «великолепно, неповторимо доносящим до зрительного зала слова и идеи Шекспира», но в то же время эта философская углубленность и сосредоточенность казались Горюнову опасными, так как, по его мнению, делали этот образ «несколько холодным» для современного зрителя. «Некоторая излишняя погруженность его в мир собственных мыслей как бы сковывает Гамлета — Качалова», — полагал Горюнов, повторяя вслед за Акимовым, что Гамлет как образ «мировой скорби» — явление неприемлемое для современного театра, ибо «в наши дни Гамлет не должен бы быть таким ибсеновски культурным, рафинированным «сосудом мыслей», а человеком гораздо более импульсивным, непосредственным, горячим».
Боязнь мысли, боязнь философии — вот что останавливало Горюнова в его увлечении качаловским Гамлетом. «Я берусь с шекспировским текстом в руках доказать, что в «Гамлете» нет никакой особенной «гамлетовской» философии, — настаивал Горюнов. — Утверждаю, — продолжал он далее, — что вся пресловутая «мировая скорбь» принца датского, если ее не объяснить более понятными, конкретными, определенными житейскими обстоятельствами, совершенно непонятна не только нашему зрителю, но и современникам Шекспира»107.
Горюнов, как и Акимов, охваченный паническим страхом перед интеллигентским «гамлетизмом», всячески боялся показать раздумья и колебания Гамлета, его размышления над судьбами человека и мира, его вынужденную бездейственность и пессимизм. Он считал, что бездумный, «оптимистический» акимовский Гамлет, «шутки которого сверкают на протяжении пяти актов»108, ближе к Шекспиру, чем понимание «Гамлета» как «трагедии мысли». Но разве в этом не заключался скрытый удар и по качаловскому образу, бывшему одним из самых глубоких и значительных образов Гамлета-скорбника, Гамлета-философа? И вот тут как будто неожиданно, но на самом деле вполне закономерно, возникает на первый взгляд странный парадокс.
Как мы помним, ведь и Гордон Крэг, которого так стремился «преодолеть» Акимов, тоже всячески пытался избежать скорбного, «психологического» Гамлета «со скрещенными руками» и мечтал, чтобы даже в таком наиболее пессимистическом месте, как монолог «Быть или не быть», его Гамлет, не только вопреки традициям, но вопреки здравому смыслу и тексту Шекспира, был преисполнен радости и восторга и, чувствуя всю «опасность и прелесть смерти», заливался бы счастливым смехом. Так крайности сходятся, и прямопротивоположные концепции неожиданно смыкаются между собой.
Но, конечно, если у Крэга Гамлет был радостен от сознания приближающейся смерти, то в постановке Акимова радость Гамлета носила иной, противоположный Крэгу смысл и получила свое демонстративно программное утверждение в цитате из Ульриха фон Гуттена, вмонтированной в текст «Гамлета»: «О столетия! Мысль пробуждается, расцветают науки, какая радость жить!» И эта тема прославления радости жизни проходила лейтмотивом через весь спектакль.
В финале «Гамлета» в театре имени Вахтангова после слов Фортинбраса: «Возьмите прочь тела» — трупы убитых быстро убирали со сцены. Горацио, охваченный горем, не замечал вначале, что унесли труп Гамлета. Потом он приходил в себя и видел брошенную маску, в которой только что Гамлет сражался во время поединка с Лаэртом. Горацио поднимал эту маску — единственное, что осталось от Гамлета, — и, бережно держа ее в руках, выходил вперед, к рампе. Голосом, в котором были сожаление и печаль, после большой паузы, он произносил тихо: «Какая радость жить!» Этой фразой из Ульриха фон Гуттена заканчивался спектакль109.
Боясь, что если не придать «Гамлету» подчеркнуто оптимистического звучания и играть его «всерьез», то современный зритель будет заражен чуждым его классовому сознанию пессимистическим мировоззрением, Акимов применительно к своей концепции осуществил не только перепланировку сцен, но и сознательную переделку шекспировского текста. Полемизируя с Гёте, который будто бы предлагал отсечь в «Гамлете» всю «внешнюю интригу и играть одни психологические взаимоотношения», Акимов решил сохранить в тексте трагедии лишь то, что непосредственно примыкает к развитию интриги (ненависть Гамлета к Клавдию, решение отомстить, разжигание себя на эту Задачу и т. д.), отсекал, как лишнее, «отвлеченные философские высказывания». Для этой цели Акимов значительно сократил текст роли Гамлета, во многом обеднив и обескровив этот образ, сделав его более прямолинейным и односторонним, лишив его психологической глубины и многогранности. Так и в исполнении Горюнова, игравшего по этому измененному варианту текста, отсутствовали почти все основные монологи, раскрывающие мысли Гамлета, — внутренний мир его души, его скорбь и разочарование, его думы о смерти, его печаль о несовершенстве жизни, то есть все то, что не совпадало с формулой Гуттена: «Какая радость жить!»110
Из всех знаменитых монологов Гамлета в постановке Акимова уцелел только монолог «Быть или не быть», но и он был преподнесен режиссером в нарочито «обезвреженном» и обессмысленном виде, как диалог Гамлета с подвыпившим студентом Горацио, происходящий (чего стоит одна эта подробность) в винном погребе!
Захмелевший Гамлет (А.О. Горюнов), надев на голову забытую актерами бутафорскую корону111 и касаясь ее рукой, произносит фразу: «Быть или не быть?», что должно было означать для этого практичного и напористого Гамлета, занятого всегда только конкретными, утилитарными вопросами, — быть или не быть ему на датском престоле? Акимов здесь сознательно демонстрирует «нищету философии» своего Гамлета. Если когда-то Гордон Крэг, мечтавший превратить этот монолог в своего рода пантомимический дуэт Гамлета с фигурой Смерти, в их как бы «скрытый» внутренний диалог, наглядно иллюстрирующий символический смысл его замысла, то и Акимов превращал этот монолог в «спор», в диалог Гамлета с Горацио и с предельной откровенностью обнажал и как бы наглядно иллюстрировал основной тезис спектакля: Гамлет — не философ, а борец за престол, человек, обделенный в распределении земных благ, кровно ущемленный в своих правах на престолонаследие, Гамлет — политический заговорщик и интриган112.
Это «приземление», освобождение Гамлета от «опасного» груза колебаний и сомнений мыслилось Акимовым как нечто чрезвычайно важное, программное и боевое. Об этом можно судить уже по тому факту, что в дальнейшем, в сцене на кладбище, текст Шекспира частью заменялся новым «злободневным» текстом, специально написанным для могильщиков В. Массом и Н. Эрдманом. Здесь, между прочим, вновь комически пародировалась и подвергалась издевке «вечная», «глубокомысленная», «интеллигентская» тема «Быть или не быть».
Так, например, первый шут (могильщик), этот «энтузиаст сомнений», зараженный гамлетизмом и рефлексией, должен был вопрошать: «Пить или не пить — вот в чем вопрос», вызывая негодование второго шута, носителя так Называемого здравого смысла: «Какой же тут вопрос! Ясно, что пить». Так, тема глубокого трагического раздумья Гамлета над сущностью жизни, по замыслу Акимова, намеренно оборачивалась балаганом и фарсом, и удар по гамлетизму попадал в самого Гамлета.
Показательно, что в 1931 году, при обсуждении постановочного плана «Гамлета» в театре имени Вахтангова, Горюнов с особым удовлетворением поддерживал намерение Акимова «попортить» личность Гамлета, считая это совершенно уместным и законным, ибо Гамлет вовсе не был идеальным, то есть чистым и безупречным в моральном отношении человеком, так как считал, что «убить человека можно, но убить моего отца нельзя»113.
Гамлет Горюнова несомненно выпадает из русской традиции исполнения Гамлета. Русские Гамлеты, начиная с Мочалова, боролись против узурпатора Клавдия во имя благородных человеческих идеалов, во имя освобождения человечества от гнета, насилия и мрака. Гамлет у Горюнова и Акимова, напротив, борется с узурпатором не во имя освобождения человечества, а лишь для себя одного, для достижения своей, глубоко личной и эгоистической цели.
Если для Качалова сверхзадачей Гамлета было стремление «спасти мир», то для Горюнова сверхзадачей спектакля и роли стало: хочу стать королем, хочу свершить дворцовый переворот, овладеть отобранным у меня датским престолом.
Если бы не было известно, что Клавдий убил отца Гамлета, «что бы было тогда?» — спрашивал себя Горюнов в начале работы, в марте 1931 года, и давал на это четкий ответ, вскрывающий существо его понимания образа: «Гамлет продолжал бы спокойно и радостно существовать? Ничего подобного. Гамлет все-таки создал бы заговор и спихнул Клавдия с престола. Что бы случилось с Гамлетом, если бы его замысел удался? В чем мысль Гамлета? Он хочет отомстить, хочет Клавдия изничтожить, [но] он хочет сделать это «чистым способом»... Если бы его план удался и ему удалось такое создать положение, чтоб Клавдий полетел вверх тормашками, то пьеса кончалась бы коронованием Гамлета. Сел бы он на престол, что бы он стал тогда делать? Он совершил бы великолепную империалистическую войну...» — фантазировал Горюнов, убежденный, что борьба за престол должна явиться «основной линией Гамлета». И далее: «Его качества исключительной личности приложимы не туда, куда следует. Он борется за престол, ведет отчаянную дворцовую интригу и получается, что все эти его замечательные данные летят к чертям. И это совершенно правильная штука».
Таков неутешительный вывод, обнаженно и откровенно вскрывающий понимание Гамлета Горюновым. К этому же пришел он и в спектакле. Его Гамлет — себялюбец и эгоист. Он не скорбит ни о смерти отца, ни об измене матери, в которой видит лишь свою «политическую противницу». Он не любит Офелию, ибо она для него только «третий шпион», подосланный Клавдием, чтобы выведать его намерения114. Поглощенный борьбой за престол, он афиширует свое притворное сумасшествие и осуществляет забавный трюк с «Духом», тайно переодеваясь в доспехи покойного короля, чтобы таким образом мистифицировать офицеров и солдат и вербовать себе приверженцев для подготовляемого им дворцового переворота.
Не принимая мистицизма трактовки сцены с Духом в спектакле МХАТ II и не желая в то же время выводить на сцену традиционного Духа, Акимов решил вовсе отказаться от изображения Призрака отца Гамлета и, применив эпатирующий трюк, превратил эту сцену из «мистерии», как это было у М.А. Чехова, в фарс, в забавный «монтаж аттракционов», где Гамлет предстоит уже не галлюцинантом, а симулянтом и мистификатором. Эта неожиданная выдумка Акимова имела, как это ни странно, свою давнюю историю. Еще Куно Фишер для иллюстрации «дебрей нелепостей», в которые впали некоторые исследователи «Гамлета», перешедшие всякие границы здравого смысла, приводит тот факт, что была сделана даже попытка, при которой Гамлет и Горацио намереваются свергнуть Клавдия с престола «с помощью придуманного привидения»115. Именно эту идею и осуществил в спектакле Акимов, когда его Гамлет, переодевшись в доспехи старого короля (которые хранились в потайном шкафу), расчетливо и ловко одурачивает солдат и офицеров, принявших его за Призрак, чтоб таким образом с помощью Горацио вербовать сообщников заговора против Клавдия.
Но этот сам по себе смешной и остроумный трюк с Духом оказывался неоправданным и бессмысленным, так как сразу же переключал спектакль в план пародии. Кроме того, эта мистификация с Духом, придуманная постановщиком, являлась лишь вставным комедийным номером, лишенным всякой связи с последующим действием, так что постепенно зритель совершенно забывал об этом. Не случайно, что во время подготовки «Гамлета» А.О. Горюнову приходила мысль — еще раз напомнить зрителю об этом «Духе», то есть о переодетом Гамлете, который мог бы появиться вторично в эпизоде боя (после сцены у королевы), чтобы таким образом воздействовать на приверженцев Гамлета. Но это предложение не было принято, ибо театр понимал ошибочность трюка с Духом и не хотел вторично к нему возвращаться («мне было указано, — говорил Горюнов, — что это утяжелит спектакль и что раз публика забыла, и слава богу»).
А.О. Горюнов видел в Гамлете не носителя идей гуманизма, как это было у Качалова, а воспроизведение исторического облика гуманиста XVI столетия, человека, «напичканного гуманистической философией», но вынужденного действовать «методами придворного заговорщика». Смыкаясь с позициями так называемого «вульгарного социологизма», Акимов и Горюнов представляли себе образ Гамлета только как образ гуманиста XVI столетия. Они сняли с Гамлета «философскую нагрузку», стремление к общечеловеческим идеалам и оставили в нем голый практицизм и своекорыстие. В этом обеднении духовного облика Гамлета, в утрате великих философских проблем заключается главнейший порок постановки «Гамлета» в театре имени Вахтангова.
Это отчетливо понимал и театр, когда после премьеры «Гамлета» и последовавших за ней шумных диспутов и резких критических статей подводил итог своей работе. «...Мина заложена была слишком глубоко, и последовавший взрыв взорвал не только гётевскую трактовку, но повредил самое здание шекспировской пьесы», произведя опасные «разрушения в основное содержании трагедии»116, — признавал В.В. Куза, видя в этом вину и театра и постановщика.
Стремясь к «материализации» «Гамлета», Акимов в известной степени возвращался к первоисточнику, то есть к скандинавской саге об Амлете, записанной в конце XII века Саксоном Грамматиком и воспроизведенной в 1576 году французским писателем Бельфоре в своих «Трагических историях», где рассказывалось, как «хитрый Амлет, сделавшийся после королем Дании, мстит за смерть своего отца Горвендилла...117. Именно там, в этой первооснове гамлетовского сюжета, увидел Акимов прообраз некоторых своих идей — и суровую, грубую материальность, и необычайную конкретность жизненного уклада, и хитрого Амлета, здорового и расчетливого в своем притворном безумии, неуклонно и верно стремящегося к цели — захвату престола и свершению жестокой и страшной мести. Но это возвращение к Саксону Грамматику и к Бельфоре означало в то же время возврат к примитиву и уничтожение сложности и богатства характеров Шекспира, ибо, несмотря на некоторое совпадение сюжетных положений, Гамлет имеет мало общего с героем древней саги.
Начав переделку «Гамлета», Акимов настойчиво спорил с Шекспиром, нарушал внутренний смысл действия. Это особенно бросалось в глаза в финале спектакля, ибо в его трактовке смерть Гамлета получалась совершенно непонятной и не мотивированной. Когда Горацио, склонившись над трупом Гамлета, читал текст из Эразма Роттердамского:
Он рассуждал о тучах, об идеях,
Он измерял суставчики блохи,
Он восхищался комариным пеньем,
Но то что важно для обычной жизни,
Того не знал...—
одной этой цитатой из «Colloquia» Акимов, сам того не замечая, зачеркивал весь спектакль, ибо его Гамлет только и делал то, что было «важно для обычной жизни», и именно в незнании практической жизни его и невозможно было заподозрить. Понимая все же, что одной «охотой на престол» Гамлет не сможет существовать, что он «гуманист» и ему необходима философия, Акимов решил занять Гамлета «научными работами», дав ему в руки книгу и заставляя его время от времени цитировать подходящие по ходу действия изречения из Эразма Роттердамского и Ульриха фон Гуттена, которые должны были заменять собственные мысли Гамлета118. Во втором акте действие происходило в «библиотеке», где Гамлет, «больший материалист, чем многие наши современники», вместе с Горацио занимался изучением анатомии. Там наряду с открытыми фолиантами, глобусом, географическими картами и скелетом человека Акимов первоначально предполагал поместить и скелет лошади, по-видимому для того, чтобы усилить у зрителей впечатление серьезности научно-естественных занятий Гамлета. Сюда же после сокращения сцены на кладбище могильщик приносил череп Йорика. Но тем не менее, несмотря на все усилия постановщика и исполнителя, этот Гамлет, по словам П.А. Маркова, «лишенный живой мысли — в каких бы кабинетах он ни сидел, в какие бы глобусы ни смотрел и какими бы черепами ни интересовался, — становится бессмысленным для наших дней, так как зритель не может в нем увидеть ни бунтующего человека Ренессанса, ни нисходящего феодала, ни даже, в худшем случае, интеллигента наших дней, как это делали Моисси и Чехов: в пьесе Акимова нет столкновения миросозерцаний. Акимов прячется за события... Он восполняет отсутствие внутренней действенности сложным сценическим орнаментом движений, костюмов, красок, декораций. По существу, его основной режиссерский и декоративный прием сводится к внутреннему омертвлению смысла пьесы, к торжеству на сцене вещи»119.
«Кони Гамлета» («The Horses of Hamlet») назвал М. Горелик свою статью, помещенную в американском театральном журнале, где, между прочим, доказывалось, что постановка «Гамлета» в театре имени Вахтангова вряд ли может быть превзойдена «богатством мысли и театральности»120. «Лошади хорошо играют... лошадиный спектакль», — сказал об этом «Гамлете» А.М. Горький121, увидя в нем «дурное озорство», глумление над темой, «балаган, недостойный серьезного театра»122. Показательно то, что именно Горький, всегда боровшийся против ложных изощрений и «своеволия» режиссеров, «новизна» которых сводится к «представлению, что сцена — это место, где режиссеры должны давать битвы изобретательности, а талантливые актеры приноситься в жертву на прокрустово ложе «новизны»123, вынес приговор этому ложно осовремененному «Гамлету».
5
Нам остается выяснить, как же сам Качалов отнесся к этой акимовской постановке, полемически направленной и против его «Гамлета». Был ли он возмущен, подобно Горькому и Станиславскому, увидевшим в ней искажение Шекспира и угрозу подлинному большому искусству?124 На мой вопрос об этом Качалов ответил отрицательно. «Нет, мне там многое даже понравилось. Было смешно. Это было что-то вроде «капустника» на тему о «Гамлете», талантливая забава талантливых людей». И, помолчав, недоуменно прибавил: «А вы сами разве видите в этом что-нибудь серьезное и значительное?»
Если Качалов не принимал всерьез акимовского «Гамлета», рассматривал его лишь как остроумную пародию, озорную шутку и как раз поэтому не был оскорблен им, как когда-то он был оскорблен мейерхольдовским «Лесом»125, то именно Мейерхольд обрушился на вахтанговцев гневно и уничтожающе. Он был совершенно непримирим к их «Гамлету» и пользовался буквально каждым случаем — от кулуарных споров и до публичных выступлений, — чтоб вновь и вновь отрицать его не только за искажение великого произведения, за «вульгарный социологизм» и «трюкачество», но и за дискредитацию некоторых своих собственных идей. Сам неоднократно переделывавший и «осовременивавший» классические произведения и призывавший к этому другие театры, он считал совершенную Акимовым «перелицовку» Шекспира «прямо кощунственной», а в одном из своих выступлений тех лет даже заявил, что он, В.Э. Мейерхольд, отказывается отныне переделывать классику.
Во всем этом была и полемика с самим собой, борьба Мейерхольда с порожденной им «мейерхольдовщиной», и характерное для него отречение от недавних «загибов», увлечений, переставших интересовать его и творчески им изжитых. В данном случае резкость и нетерпимость Мейерхольда объяснялись именно тем, что в постановке Акимова он почувствовал кое-что и «свое». Вне его собственных замыслов и волновавших его внутренних подтекстов, это «свое» казалось ему теперь бессмысленностью и нелепостью. Еще не видя «Гамлета» Акимова и основываясь лишь на доходивших до него слухах, Мейерхольд упрекал вахтанговцев в заимствовании у него ряда идей, которые он им доверил и которые еще сравнительно недавно он сам намеревался осуществить.
Чтобы понять это волнение и резкость оценок, надо знать, чем была для Мейерхольда гамлетовская тема. Увлечение «Гамлетом», как и «Борисом Годуновым» Пушкина, проходит через всю его жизнь. Гамлет был его любимой, несыгранной ролью, а постановка этой трагедии Шекспира была самой заветной, но так и неосуществленной мечтой. Мысль о «Гамлете» в течение более чем двух десятилетий неотступно его преследовала. Он неоднократно собирался ставить «Гамлета», искал своего подхода к Шекспиру, обдумывал множество вариантов, постоянно видоизменяя свой постановочный замысел, так как менялся сам, но по разным причинам откладывал эту постановку, словно страшась, не считая себя готовым осуществить ее.
Необычайно мнительный, подозрительный, он обычно ревниво скрывал свои замыслы, так как боялся, что кто-то из подражателей может присвоить, использовать их, выдать за свое. «Внутренности должны быть закрыты. Я не люблю, когда их выкладывают на стол для обозрения», — сказал он однажды. Постановочные замыслы «Гамлета» были его тайной. И лишь изредка он как бы «приоткрывал» свои намерения, рисуя отдельные штрихи и детали, а порой и целые сцены, поражавшие слушателей неожиданностью, новизной, образной силой.
На основе сохранившихся скупых, фрагментарных высказываний Мейерхольда о «Гамлете» и Шекспире, на основе бесед с его учениками и друзьями можно было бы попытаться воссоздать замысел его неосуществленного спектакля, показать, как складывался и изменялся у выдающегося режиссера план постановки «Гамлета», но тема эта, никем еще научно не разработанная, требует специального исследования126. И если я все же обращаюсь сейчас к мейерхольдовскому «Гамлету», то этот краткий экскурс должен лишь показать, в какой мере искания Мейерхольда прямо или косвенно соприкасались с темами Крэга и Качалова, Михаила Чехова и Моисси, Акимова и Горюнова.
Гордон Крэг всегда высоко ценил Мейерхольда как одного из самых выдающихся режиссеров современности. Он видел в нем подлинного «художника театра», открывателя неизведанного, неутомимого искателя новых путей в искусстве. В 1911 году, в предисловии к русскому изданию сборника его статей «Искусство театра», в числе тех немногих сценических деятелей, которым по-настоящему была близка идея нового театра, Крэг называет Мейерхольда наряду со Станиславским, А. Аппиа, Г. Фуксом, С. Выспянским и другими.
Мейерхольд и Михоэлс — наиболее яркие театральные впечатления, вынесенные Крэгом из посещения Москвы в 1935 году. Вот что писал Крэг о Мейерхольде: «Он поражает. Он великий экспериментатор-альпинист. Он никогда не отдыхает, переходя каждый год к новым положениям, высоко подняв голову. Познакомьтесь с историей его деятельности и вы увидите, как свободен его ум, никогда не останавливающийся на своих первых или последних заблуждениях.
Увидеть работу Мейерхольда в целом, вот для чего мне хотелось бы снова приехать в Россию. То, что я видел мельком, мне очень понравилось — он очень смел... Если бы я приехал в Москву опять, я хотел бы, выражаясь фигурально, сидеть приклеенным на стуле в течение нескольких недель, присутствовать на репетициях и спектаклях в театре Мейерхольда, и тогда, только тогда, не отвлекаясь посещениями других театров, я был бы в состоянии наблюдать, учиться и понимать его — этого исключительного театрального гения»127.
Мейерхольд в свою очередь всегда отдавал должное Крэгу как талантливому режиссеру, художнику и театральному реформатору, признавая его приоритет в утверждении идеи «условного театра». Он видел в нем своего предшественника и союзника в борьбе с натурализмом. «Знаменательно, что именно в первом году нового столетия E.G. Craig бросил вызов натуралистическому театру... таким образом, этот молодой англичанин первый ставит знак первой вехи на новом пути Театра»128, — писал Мейерхольд в 1909 году. Это признание очень важно. Но в той же заметке о Гордоне Крэге Мейерхольд подчеркивал, что к идеям, сходным с идеями английского режиссера, он пришел самостоятельно и что «театральное революционное движение в России возникло на этот раз свободно, вне западнического влияния», так как книгу Крэга «The Art of the Theatre», изданную в 1905 году, Мейерхольд в период работы в Театре-студии (Студия на Поварской), еще не знал129. Ознакомившись с книгой Крэга, Мейерхольд с неослабевающим, настороженным вниманием следил за дальнейшими его экспериментами, читал его статьи в немецкой прессе и даже перевел на русский язык и опубликовал две из них130. Во время пребывания во Флоренции летом 1910 года Мейерхольд в надежде увидеть Крэга посещает редакцию его журнала «Маска», осматривает его студию «Арена Гольдони» — маленький старинный театрик под открытым небом, где Крэг обычно целыми днями экспериментировал с передвижными ширмами и кукольными фигурами. Однако личное знакомство на этот раз не состоялось, так как Крэг был временно в отъезде131.
В статьях и рисунках Крэга тех лет Мейерхольд находил подтверждение многим своим мыслям об условной природе сценического искусства, о создании обобщенно-монументального поэтического театра, театра символов, о связи с искусством Востока, об изучении традиционных форм старинного театра, подсказывающих новые приемы современной сценической выразительности. «Я бы хотел, чтобы пьеса начиналась без занавеса. Чтобы занавеса совсем не было, — говорил Крэг Станиславскому 16 апреля 1909 года во время их занятий по «Гамлету». — Так, чтобы публика, войдя в зрительный зал, успела бы до начала представления освоиться с этими линиями и новым для нее видом сцены. Хорошо также, чтобы каждая картина начиналась с того, что на сцену приходят специально одетые люди, ставят декорацию, поправляют свет и т. д., чтобы дать таким образом почувствовать публике, что это представление». Как совпадают эти идеи Крэга с исканиями Мейерхольда, который примерно в те же годы в ряде своих постановок утверждает принцип обнажения приемов театрального зрелища, вводит слуг просцениума, делает попытки отказаться от занавеса.
Мейерхольду импонировал режиссерский максимализм Крэга, его стремление стать единовластным «автором спектакля», подчинив все происходящее на сцене «всемогущему закону ритма». В то же время Мейерхольду, кому по меткому замечанию А.В. Луначарского, был свойствен тогда «декадентский инстинкт жизнебоязни», были близки и отвлеченность символики Крэга, и понимание театра как мистерии, и тема рока, непреложного зловещего фатума, превращающего человека в марионетку, управляемую властью таинственных «невидимых сил».
В годы постановки «Гамлета» в Художественном театре Мейерхольд по самому существу своего искусства был ближе к Крэгу, чем Станиславский. И если бы именно Мейерхольду было поручено сценическое осуществление замысла крэговского «Гамлета», то, несомненно, он нашел бы общий язык с постановщиком, родственные его творчеству символические приемы и во многом избежал бы столкновений и конфликтов, которые имели место между Крэгом и Станиславским и были выражением полярности их идейно-эстетических взглядов. Мейерхольд, требовавший от актеров «трагизма с улыбкой на лице», вероятно, понял бы и принял мысль Крэга, смутившую Станиславского и Качалова, — «чтобы достигнуть трагедии, надо быть радостным». Стремление Крэга заменить живые человеческие характеры гротескными театральными масками не только не могло встретить возражений, но и полностью отвечало тогдашним исканиям Мейерхольда, так же как и раскрытие «мистической сущности» произведения, поиски «пластической статуарности», музыкально-ритмического построения мизансцен и антипсихологизма в игре актеров.
Не случайно, что в 1909 году в спорах с Крэгом о «Гамлете», не принимая его символические аллегории, превращение искусства в иносказание, своего рода ребус, требующий от зрителя разгадки зашифрованного режиссером смысла, Станиславский называл эти приемы «мейерхольдовщиной»132, имея в виду опыт работы Мейерхольда в Студии на Поварской и в театре В.Ф. Комиссаржевской.
В последующие годы, после выхода книги Мейерхольда «О театре» (1913), в записных книжках Станиславского появляются заметки, полемически направленные против Мейерхольда и других режиссеров-модернистов. Здесь Станиславский, борясь с «ревизией реализма», как бы продолжает тот идейно-творческий спор, который он вел во время подготовки «Гамлета». Даже в конце 20-х годов, работая над рукописью «Разные виды театра», Станиславский не оставлял мысли выступить против «прежнего Мейерхольда с мистикой и метерлинковщиной»133, то есть против символического театра в его «чистом» виде, органически чуждом искусству переживания.
Замысел крэговского «Гамлета» безусловно интересовал в те годы Мейерхольда, но сам он, как большой художник, мечтал об ином подходе к Шекспиру, о своем, отличном от Крэга, видении «Гамлета». Непосредственный отзвук влияния Крэга сказался лишь на поставленной Мейерхольдом в январе 1914 года в Александрийском театре пьесе английского драматурга А. Пинеро «На полпути», где им был использован принцип упрощенной архитектурно-объемной декорации («кубы»), открывающий, по его словам, «бесконечные возможности». «Изобретателем в этой области считается Г. Крэг, я только осуществил эту идею в применении к современной пьесе»134, — говорил он впоследствии.
Во время пребывания в Художественном театре Мейерхольд в ролях шекспировского репертуара обнаружил качества острохарактерного комедийного актера. В Мальволио в «Двенадцатой ночи» и особенно в небольшой роли принца Арагонского в «Венецианском купце», вызвавшей одобрение самого Станиславского, ярко проявились черты театральной буффонады и реалистического гротеска. «Мейерхольд мой любимец. Читал Арагонского — восхитительно — каким-то Дон-Кихотом, чванным, глупым, надменным, длинным, длинным, с огромным ртом и каким-то жеванием слов»135, — писал Станиславский летом 1898 года после репетиции «Венецианского купца». Позднее Мейерхольд с неизменным успехом выступал в роли принца Арагонского и в Александрийском театре. Мечтая о Гамлете, вынашивая этот образ в своей душе, Мейерхольд понимал, что по характеру своих артистических данных он не подходил к этой роли и не мог претендовать на нее. Когда в 1911 году на сцене Александринского театра была осуществлена постановка «Гамлета», то Мейерхольда первоначально намечали на роль Полония136.
В предреволюционные годы в Студии на Бородинской, ставшей для Мейерхольда экспериментальной режиссерской лабораторией по изысканию новых средств и приемов сценического искусства, он впервые практически подошел к «Трагедии о Гамлете, принце датском». В число пантомим-импровизаций Мейерхольд включил две сцены — «Мышеловку» и «Сумасшествие Офелии» — в программу публичного вечера студии, показанную в феврале 1915 года137. В предыдущей главе уже говорилось о том, что мысль Мейерхольда играть «Гамлета» без текста, как пантомиму, посредством лишь движений и жестов, во многом перекликалась с предположениями Крэга. Возрождая искусство пантомимы, добиваясь от студийцев в первую очередь воплощения музыкально-пластической, динамической стороны роли, Мейерхольд, как и Крэг, утверждал силу «первичных элементов» театра — «маски, жеста, движения и интриги».
В самом деле, искание гротескной выразительности и графичности жеста, обостренное внимание к форме, к условному рисунку движения, «только в театре мыслимому», в самой основе которого таился элемент танца, принцип «построенности» сценического действия, развивающегося как бы контрапунктом к музыке и составляющего с ней единое динамическое целое, и, наконец, самая идея воспитания нового, «синтетического актера» — спортсмена, акробата, пантомимиста, жонглера, — разве не близки эти идеи Мейерхольда идеям Крэга, также мечтавшего о создании собственной студии, о «новом племени артистов», воспитанных на пантомиме, физкультуре и спорте, которые могли бы стать «жрецами высшей силы — движения»? Не случайно, что имя Крэга неоднократно сочувственно упоминалось Мейерхольдом на занятиях в студии и на страницах его журнала «Любовь к трем апельсинам».
Но, несмотря на несомненно имевшие место черты сходства с принципами Крэга, к «Гамлету» Мейерхольд шел своим, лишь ему свойственным путем. В период работы в Студии на Бородинской у Мейерхольда не было еще сложившегося плана постановки этой трагедии. Он еще только искал, нащупывал пути для будущего. Через «Гамлета» он хотел проникнуть в тайны Шекспира и его театра. Борясь с «литературщиной», он хотел найти ключ к шекспировской театральности, понять присущее ей своеобразие. Но при этом он отказывался от завоеваний психологического реализма, с наибольшей яркостью воплощенных в деятельности МХТ, в драматургии Чехова, Л. Толстого и М. Горького. Неустанный экспериментатор, он стремился к тому, чтоб прорваться к истокам шекспировского театра, освоить «народные законы драмы шекспировой», отмеченные еще Пушкиным и утраченные, по мнению Мейерхольда, современным сценическим искусством. Он хотел возродить традиции народного, площадного театра.
В своей лабораторной работе над «Гамлетом» Мейерхольд прежде всего ставил задачу не столько вскрыть самую пьесу, сколько понять приемы, стиль автора, овладеть действенной сущностью драматургии Шекспира, обнажив само действие, освободив его от слова. Идя по линии фабулы, он стремился выявить только основное и главное, лишь экстракт, сгусток, концентрацию действия, опуская психологические подробности.
В отличие от Крэга, у которого декорации, как мы помним, играли исключительно важную роль в раскрытии спиритуалистической идеи его «Гамлета», а «фаталистические кубы и неумолимые ширмы», по словам А.В. Луначарского, оказывались «слишком лезущими на первый план своей необычайностью»138, Мейерхольд намеренно отказался от декораций вообще, стремясь приблизить «Гамлета» к условиям площадного театра, где актеры играли с трех сторон окруженные зрителем. Для постановки двух гамлетовских сцен Мейерхольду было достаточно студийной эстрады-площадки (с одной дверью посередине и двумя боковыми лестницами, ведущими в зал) и просцениума, расположенного на полу, ограниченного полукруглым синим ковром. Мейерхольд понимал, что самое построение шекспировского спектакля как народного зрелища влечет за собой необходимость серьезных преобразований: разрушения современной сцены-коробки, выдвижения в зрительный зал просцениума, отказа от принципа сценического иллюзионизма, «четвертой стены», от рампы, кулис, занавеса. Уже в те годы у него зарождалась идея создать новое театральное здание, «театр будущего», сочетающий площадку сцены с цирковой ареной.
В сцене «Мышеловки» Мейерхольд поместил короля, королеву, Офелию и Гамлета на помосте-эстраде, откуда они смотрели пантомиму «Убийство Гонзаго», разыгрываемую внизу на ковре комедиантами студии. Последние, как и Гамлет, выходили прямо из зрительного зала, а король с королевой — из двери в центре эстрады. В «Гамлете» Мейерхольд стремился возродить игровое значение Шекспира, делал акцент на мастерстве представления, на театральной «игре» актеров, избегая «переживания». Это проявилось особенно в «Убийстве Гонзаго», исполнявшемся ярко, подчеркнуто театрально. Актеры, игравшие пантомиму, являлись по замыслу постановщика тем центром, к которому было приковано внимание зрителей, в то время как король и королева, замирающие от ужаса, за внешним спокойствием пытающиеся скрыть охватившую их тревогу, были даны как бы «вторым планом». Смысл сценического действия, трагическая ситуация были понятны без слов.
Генрих Нотман (впоследствии режиссер Энритон), игравший Гамлета, быстро схватывал показы Мейерхольда, был как бы его двойником. Он то возлежал у ног королевы, то неожиданно вскакивал и легко спрыгивал с эстрады на ковер, чтоб следить за представлением актеров, то вновь прыжком вскакивал на эстраду, как бы объединяя, связывая в единое целое оба одновременно развертывающихся действия. Стройный, стремительный и точный в движениях, Гамлет — Нотман, по воспоминаниям очевидцев, был очень пластичен. И может быть, именно в нем, одном из лучших пантомимистов студии, полно раскрылись те черты «синтетического актера», которых добивался Мейерхольд, — актера-танцора, гистриона, мима, «умеющего своим телом чертить по подмосткам геометрические фигуры, а иногда прыгать бесшабашно и весело, как бы летая по воздуху»139? Даже такой строгий и пристрастный зритель, как М.Ф. Андреева, всегда отрицательно относившаяся к «фокусам» Мейерхольда, вспоминала впоследствии о Нотмане как о «превосходном актере», хотя самая мысль о превращении «Гамлета» не то в балет, не то в пантомиму казалась ей совершенно неоправданной140.
Отрывки из «Гамлета», имевшие для Мейерхольда декларативно-полемический характер, были показаны им через год после того, как «Гамлет» в Художественном театре сошел с репертуара. Этот новый, мейерхольдовский Гамлет обладал рядом качеств, которых недоставало Гамлету Качалова, — импульсивностью, динамизмом, легкостью, графичностью и музыкальностью движений. Нотман ярко доносил тему Гамлета-мстителя, исполненного ненависти к злу и желания действовать. Но в образе, созданном им, не было, как в Гамлете Качалова, человека встревоженной совести, мучающегося не только своей личной болью, но страданиями всего человечества. И если внешние события трагедии, то, как действует Гамлет, были воплощены Мейерхольдом и Нотманом очень ясно и впечатляюще, то главное, что составляло силу Качалова, — ищущая мысль Гамлета, то, о чем думает он, познавший всю глубину драматизма и разлада между жестокостью и порочностью окружающей его действительности и идеалами «всечеловеческого счастья», без чего нет подлинной трагедии Гамлета, — оставалось вне возможностей трактовки Мейерхольда.
Самое возвращение к истокам шекспировской театральности, к площадному народному зрелищу, осуществлявшиеся в те годы в резкой полемике с психологическим реализмом, приводили к обеднению внутреннего философского содержания трагедии Шекспира, превращению ее в действенную мелодраму. Сопоставление образа Гамлета, намечавшегося Мейерхольдом в этих лабораторных опытах, с Гамлетом Качалова возможно лишь потому, что именно эти опыты открывают целый ряд последующих исканий Мейерхольда, также полемически направленных против качаловской традиции.
«Не посмотреть ли на трагедию о Гамлете как на пьесу, где плач слышен в веселых шутках, свойственных театру? Не забыть ли навсегда всякие споры ученых о сильной или слабой воле Гамлета и о всяких «тенденциях» автора, навязанных ему во что бы то ни стало?» — риторически спрашивал Мейерхольд. Он видел одну из главных особенностей стиля Шекспира в контрастном сочетании печального и веселого, трагического и буффонного и искал формальных приемов для передачи этого контраста. Мейерхольд утверждал, что в «Гамлете» налицо «чередование высокопатетического и грубокомического не только в целом, но и в отдельных ролях (в главной в особенности)»141. И разве не знаменательно то, что контраст патетического и грубо комического — ведь Мейерхольд специально оговаривает это — должен был бы, по его мысли, особенно ярко прозвучать в роли самого Гамлета? Здесь Мейерхольд полностью расходился и с Крэгом и с Качаловым, у которых «грубо комическое» в образе Гамлета отсутствовало совершенно. Конечно, по одной сцене невозможно судить, насколько органично сумел бы Мейерхольд осуществить подобную трактовку в спектакле, но нас интересует самая направленность его мысли.
Контраст возвышенно-трагического с обыденным, почти тривиальным, Мейерхольд намечал и в сцене «Сумасшествия Офелии». Он ставил перед исполнительницей, студийкой Бочарниковой, задачу избежать сентиментальности, психологического «правдоподобия», клинически натуралистической имитации болезни. Эксперимент был смелым и неожиданным: тема безумия Офелии передавалась не столько самой актрисой, сколько отраженно, через движение и ритм ее окружающих, то есть внепсихологическим путем. В данном случае безумие Офелии подчеркивалось и акцентировалось игрой «няньки», слуги просцениума (студийка Геннинг).
В ритмичности и пластической грации движений и жестов Офелии, идущих на фоне музыки, в самом ее облике, чем-то напоминающем образы Боттичелли, не было ничего странного и болезненного. Офелия то двигалась по овалу синего ковра, словно по берегу небольшого пруда, то останавливалась, собирая воображаемые цветы, прижимала их к груди, то в задумчивости роняла их142. Но в самой повторности ее движений, бесцельном «кружении» вокруг пруда, порой ощущалась какая-то надломленность, отрешенность от жизни, рождающие у зрителей щемящее чувство обреченности. В то же время, как вспоминает А.В. Смирнова, «возвышенная лиричность» в душевном состоянии Офелии сочеталась с обыденной, простой реакцией «няньки», которая вглядывалась, не понимая, что происходит, иногда помогала Офелии поднять платок, оброненный ею. «Но потом нянька начинала догадываться, понимать, приходила в отчаяние и ужас и, не зная что предпринять, начинала ходить за Офелией по пятам, отмечала всю непоследовательность ее поведения, плакала»143.
А.Л. Грипич по моей просьбе воспроизвел некоторые моменты этой сцены. Показывая «няньку», когда она убеждается в безумии Офелии, он метался, движения его были исполнены трагического ужаса, отчаяния, страха. Для эмоционального накала сцены, в моменты наибольшего напряжения действия, он прибегал к выкрику — прием, иногда применявшийся Мейерхольдом для усиления впечатления от пантомимы. Запомнились жесты его заломленных над головой или раскинутых в стороны рук, условные, гротескно заостренные, экспрессивные. В том, как Мейерхольд применял эти сочетания «ритмического многообразия», пластического и музыкального начал, чувствовалось влияние восточного искусства. И действительно, по верному замечанию Назыма Хикмета, Мейерхольд всегда любил «особенную простоту, лаконизм, своеобразие театров Востока; прием мизансценирования, графичность движений, их предельную выразительность... И лирическую эпику азиатского театра, конденсированность эмоций, острое чувство театральности, враждебное натурализму, шутку, свойственную народному зрелищу, которую так ценил и Шекспир. Не случайно, размышляя о шекспировском театре, Мейерхольд находил переклички с театрами Японии и Китая»144.
Возврат к историческому прошлому, к традициям старинных народных театров Запада и Востока был нужен Мейерхольду не для сценической реконструкции, простого воссоздания форм и приемов минувших театральных эпох, а как «неизбежное условие движения вперед». Он так определял девиз своей студии: «Всегда — завтра, никогда — сегодня». Он утверждал, что студия — не школа, а «братство недовольных современным театром, строителей нового театра, искателей новой техники». Он призывал молодежь к студийности, к уходу в «подполье», чтоб там готовить «эстетическую революцию», создавать элементы театра будущего. Однако непреодоленный груз символизма и декаданса естественно суживал эти студийные искания Мейерхольда.
Зимой 1915/16 года Мейерхольд вновь возвратился к «Гамлету». Продолжая работу над сценой безумия Офелии, он хотел, по сравнению с прошлогодним вариантом, избежать некоторой утонченности жестов и мизансцен и всячески добивался «наивной простоты подлинного балагана»145. Теперь, после того как эксперимент с «обессловливанием» Шекспира был осуществлен и актеры овладели «остовом сценария», действенным рисунком ролей, он считал возможным вернуть исполнителям временно отнятые у них слова текста и продолжал делать опыты в этом направлении. Так постепенно нащупывал Мейерхольд пути и подходы к построению шекспировского спектакля, который он намеревался в дальнейшем полностью осуществить в своей студии, без пропусков отдельных сцен и без купюр146. Но воплотить в жизнь это намерение он не смог, так как сама студия находилась уже в состоянии творческого кризиса и в 1917 году закончила свое существование.
Лишь в Театре РСФСР I, который мыслился им как «театр революционной трагедии и буффонады», постановка «Гамлета» вплотную приблизилась к осуществлению, стала для Мейерхольда реальностью. Здесь он получил возможность связать лабораторно найденные им в Студии на Бородинской приемы народного площадного театра Шекспира с приемами и задачами политического агитационного театра современности. «Утвердить к ближайшей постановке «Мистерию-буфф» Маяковского и «Гамлета»147, — читаем мы в протоколе заседания Художественного совета Театра РСФСР I от 24 ноября 1920 года. Это репертуарное соседство не было простой случайностью.
Мейерхольд хотел зачеркнуть прежние «буржуазные» толкования «Гамлета», ниспровергнуть сценические традиции. Замысел Мейерхольда был исполнен полемики и вызова. Он стремился сделать спектакль не просто без оглядки на прошлое, но подчеркнуто разрывая с ним. Оформление «Гамлета», порученное молодому художнику В.В. Дмитриеву, одному из «новейших последователей Пикассо и Татлина» (каким его видел сам Мейерхольд), должно было, так же как в незадолго поставленных до этого «Зорях» Верхарна, обнажать условную природу театра, ломать привычные каноны. Предполагалось, что оформление будет носить абстрактный, вневременный характер и будет воздействовать «игрой» различных фактур, объемов и плоскостей, проволочных серебристых лучей, протянутых в разных направлениях и напоминающих сияние. Любопытно, что позднее, в последний период своей творческой жизни, Мейерхольд мечтал о Пикассо как художник, наиболее близком его замыслу «Гамлета».
В 1920—1921 годах, как бы предвосхищая на десятилетие мысль Акимова, Мейерхольд намеревался «осовременить» «Гамлета», внести в трагедию агитпублицистику и клоунаду. Чтобы повысить политическое значение пьесы, сделать ее близкой современности, В.Э. Мейерхольд и В.М. Бебутов, режиссеры «Гамлета», «всю прозаическую сторону, как и весь сценарий» должны были делать сами, имея уже за плечами опыт переделки «Зорь». Стихотворную часть вначале предполагали поручить Марине Цветаевой, а Маяковский должен был заново переработать сцену могильщиков («диалог клоунов»), превратив ее в политическое обозрение на злобу дня148.
Мейерхольду хотелось, чтобы «сегодняшнее, современное, сиюминутное» чаще врывалось в шекспировскую трагедию, звучало даже и в монологах Гамлета. Если Станиславский необычайно дорожил советами Гамлета актерам в третьем акте, видя в них заветы сценического реализма, предвосхищающие его «систему», то Мейерхольда шекспировский текст здесь не только не удовлетворял, но вызывал чувство протеста. Вместо обращения Гамлета к актерам он намеревался сочинить новый текст боевого, программного содержания, который явился как бы «манифестом левого искусства». По своей направленности, по словам В.М. Бебутова, он должен был перекликаться с прологом Маяковского ко второй редакции «Мистерии-буфф» и быть полемически заостренным против идейных и эстетических противников, против защитников «старого театра». Мысль о замене этого монолога Гамлета не покидала Мейерхольда и в дальнейшем. Он признался однажды, что именно в этом месте трагедии он мечтал от лица Гамлета изложить «экстракт» своего понимания сценического искусства, свой «символ веры», высказанный по-пушкински сжато и точно.
Продолжая считать Гордона Крэга своим соратником в деле разрушения основ натуралистического театра, Мейерхольд тем не менее в этот период уже достаточно определенно расходился с ним по важнейшим, кардинальным вопросам искусства. Он решительно отвергал воинствующую идеалистическую философию Крэга, его стремление замкнуться только в сфере «чистого искусства», изолированного от жизни, от политики. Наоборот, Мейерхольд хотел активно участвовать в борьбе за революционное преобразование мира. Это был и пересмотр некоторых собственных прежних позиций, отрицание своего недавнего символистского прошлого.
Вспомним, что одним из важных моментов в замысле Н.П. Акимова являлась его полемика с Гордоном Крэгом и постановкой «Гамлета» в Художественном театре. Оказывается, так же собирался поступить и Театр РСФСР I. В М. Бебутов, являвшийся, как это уже было сказано, сорежиссером Мейерхольда в постановке «Гамлета», говорил мне, что в годы «Театрального Октября» Всеволод Эмильевич, несмотря на пиетет по отношению к Крэгу, рассматривал его как своего идейного противника. И это должно было прозвучать и в спектакле.
Если для Крэга, как мы знаем, основной идеей его «Гамлета» была «радость небытия», торжество Смерти, победа «небесного» над «земным», то Мейерхольд намеревался подчеркнуто противопоставить этому «радость бытия», сорвать с «Гамлета» чуждые Шекспиру религиозно-мистические покровы. На смену абстрактной, потусторонней символике Крэга он хотел внести в спектакль революционную символику и аллегорию, не без воздействия поэмы Блока «Двенадцать» и Маяковского.
В конце 1920 года в журнале «Вестник театра», в статье, не только навеянной мыслями Мейерхольда, но и прокорректированной им, В.М. Бебутов писал:
«Что означали в замысле Крэга эти белые архангелы в финальном торжестве Фортинбраса (а они мало походили на сколько-нибудь исторических норвежцев)? Почему так взволнованно звучал вопрошающий голос Горацио: «Чего ты ищешь здесь? Несчастий или чудес?»
Не было ли все это типизацией небесных и земных воинств — эманацией величия бога и короля, милостью которого Крэг объявлял себя свободным человеком, и не будет ли, стало быть, прав «1-й театр РСФСР», который в этом апофеозе трагедии покажет красных архангелов?
Что значила в замысле Крэга эта фигура «золотящейся красавицы смерти», следовавшая за датским принцем?
Не был ли это сладостный сон небытия?
И не прав ли будет «1-й театр РСФСР», который противопоставит этому торжество радостного бытия?
Что означало такое возвеличение до скульптурного выражения ничтожного короля и такое незаслуженное сведение Гамлета до положения несчастного послушника?
А театр РСФСР хочет сделать наоборот»149.
«Наоборот» — по сравнению с тем, что было достигнуто в «Гамлете» Художественного театра.
Под такой декларацией, без сомнения, могли бы подписаться Н.П. Акимов и А.О. Горюнов.
В начале 20-х годов, захваченный борьбой с «призраками прошлого», Мейерхольд хотел заставить трагедию Шекспира звучать агитационно, а образ самого Гамлета трактовать по-иному — здоровым, насквозь земным человеком действ и я, созвучным нашей революционной действительности и лишенным какой бы то ни было рефлексии и гамлетизма.
«...Если «Ревизор», «Смерть Тарелкина» и «Гамлет» будут сценически осуществлены в настоящее время так, как они осуществлялись бесчисленное количество раз, с бытом, «переживаниями» и глубокомысленной «Виттенбергской философией», то напрасны будут все наши слова о «революционном значении искусства», о «выявлении революционного сознания на сцене» и прочих прекрасных вещах», — писал в декабре 1920 года М.Б. Загорский, бывший тогда одним из ближайших помощников В.Э. Мейерхольда и завлитом его театра. Указывая в своей статье, что Театр РСФСР I готовит постановку «того самого «Гамлета», который до сих пор распинался на всех перекрестках мира», М.Б. Загорский писал о новом Гамлете, Гамлете-мстителе, о «лике юноши, грозно и бурно мстящего старому миру, в котором «распалась связь времен», подгнило его основание («подгнило что-то в датском королевстве») и в котором так долго властвовали «короли из тряпок и лоскутьев...»150. Весной 1921 года в беседе с приехавшей к нему из Киева группой театральной молодежи, Мейерхольд, как вспоминает об этом С.И. Юткевич, не стал развивать лозунги «Театрального Октября», а к великому их изумлению заявил, что одной из важных задач революционного театра является задача так поставить «Гамлета», чтобы «сегодняшний зритель почувствовал в шекспировском персонаже своего современника»151.
Уже самый выбор исполнителя центральной роли кое-что приоткрывает в замысле Мейерхольда тех лет. Перебирая возможных кандидатов (А.Я. Закушняк, А.А. Мгебров и другие) он склонялся к тому, чтоб поручить роль Гамлета... Игорю Ильинскому, тогда еще совсем молодому актеру, «здоровый, солнечный» талант которого он так ценил. Важно при этом вспомнить и другие поиски Мейерхольда в этом направлении. Однажды он встретил на улице какого-то парня, понравившегося ему по типажу, и притащил в театр. Парень был здоровый, краснощекий, толстоногий. Совсем простой, малограмотный. «Он будет играть у нас Гамлета!»152 — неожиданно заявил Всеволод Эмильевич. Мейерхольда увлекала мысль, что в Театре РСФСР I Гамлет будет человеком из народа. В те годы он видел в Гамлете революционера, борца против тирании, который, прежде чем заколоть короля, «коротким движением гибкой стальной рапиры сбросит с головы его корону»153.
Всеволод Эмильевич вскоре вынужден был отказаться от своего намерения использовать малокультурного парня-здоровяка на роль, требующую от исполнителя высокого интеллектуального развития и психологической глубины. Он понял, что его избранник не сможет практически выполнить режиссерских заданий. Но самая возможность подобного выбора красноречиво свидетельствует о крайностях трактовки Мейерхольда, показывает, в каком направлении шли тогда его поиски. Так же как и у Акимова и Горюнова, это должен был быть Гамлет-боец, «биологически здоровый» экземпляр человеческой породы, сильный, мужественный, лишенный психологических нюансов, колебаний и сомнений. Также здесь имел место вызов, эпатирование, стремление сделать «все наоборот», идти вразрез с общепринятым толкованием шекспировского образа. В то же время это был и полемический удар против Гамлета-мыслителя, Гамлета-философа, классическим воплотителем которого был Качалов.
Мы не знаем, как бы практически осуществил Мейерхольд свой замысел, но, несомненно, что за внешним эпатированием, за намеренным «огрублением» образа у него могло скрываться нечто большее, то «мейерхольдовское», что осветило бы Гамлета иным светом. И может быть, как это казалось людям, близко знавшим его, — мечтая в 1920—1921 годах о таком простом, примитивном Гамлете, Мейерхольд думал: «А все-таки я даже и через этого парня смогу показать гамлетовское, но новой, какой-то «вывернутой стороной».
Спустя несколько лет в одном из своих выступлений Мейерхольд заявил, что для того чтобы вскрыть «самую основную энергию», «основную базу» этой трагедии Шекспира и усилить ее социальную заостренность, необходимо всячески подчеркнуть Гамлета-«действователя», вступившего в борьбу «в силу своей индивидуальности революционера, борца, ученика Йорика, шута, который иронически относился ко всему, что перед ним протекало...» Эти слова — «ученик Йорика, шута» — отнюдь не были случайной обмолвкой, Мейерхольд вкладывал в них совершенно определенный смысл. Он говорил, что эпизод на кладбище, где Гамлет берет череп Йорика в руки и вспоминает о своей дружбе с шутом, обычно неверно трактуется как проходная сцена. Мейерхольд видел в нем «основную характеристику» роли и утверждал, что «это должно быть взято на учет для всего действия Гамлета»154". Поясняя свою мысль, он подчеркивал, что в ту эпоху «шуты были самые большие революционеры», ибо «под соусом шутки» они осмеливались говорить такие вещи, за которые всякому другому грозила бы виселица.
После закрытия в 1921 году Театра РСФСР I Мейерхольд не оставлял мысли о «Гамлете», держа его, так сказать, «на прицеле». В беседах с близкими ему людьми и со студентами Государственных высших режиссерских мастерских (ГВЫРМ) он часто и охотно импровизировал на темы «Гамлета», эскизно намечая отдельные сцены и образы, но никогда не раскрывая своей концепции в целом. В.В. Дмитриеву и С.И. Юткевичу запомнились рассказы Мейерхольда о том, каким ему представлялся Гамлет в те минуты, когда он тащил труп убитого им Полония по мрачным коридорам и лестницам Эльсинора или в момент встречи его с Призраком отца. М.Б. Загорский, вспоминая о мейерхольдовском «Гамлете» начала 20-х годов, говорил мне, что он отчетливо помнит, как рисовалось Мейерхольду появление Призрака. Он должен был внезапно появляться из моря, его захлестывало волной, как большую морскую рыбу. Призрак был в серебристой кольчуге, похожей на чешую и опутанной водорослями. Г.Л. Рошаль, учившийся в ГВЫРМе в 1922 и 1923 годах, запомнил рассказ Мейерхольда о Фортинбрасе: «Шекспир выдумал фигуру Фортинбраса специально для режиссеров, а они почему-то не обращают на нее внимания. Фортинбрас — ключ к «Гамлету», к правильному пониманию этого образа. Ведь именно он в финале трагедии воздает воинские почести Гамлету, награждает его посмертно, как революционного бойца, погибшего в неравной борьбе. Фортинбрас — важная фигура, он нужен для прославления подвига Гамлета»155.
В своем стремлении сделать постановку «Гамлета» созвучной идеям современности, революционному миросозерцанию Мейерхольд не был одинок. Показательно, что в 1921—1922 годах Вахтангов, как и Мейерхольд, был заражен «гамлетовской лихорадкой» и собирался «дерзнуть», осуществить «Гамлета» и в своей собственной студии (непосредственно вслед за «Турандот») и в измененной режиссерской редакции — в Первой студии МХТ156. Вахтангов ощущал в «Гамлете» не только тему крушения и трагической гибели старого миропорядка, но и тему освобождения, возмездия и отмщения, тот внутренний пафос, который позволял воспринимать трагедию Шекспира как произведение, близкое бурной революционной эпохе. Но здесь было, конечно, и очень существенное различие. Вахтангову образ Гамлета представлялся лишенным той прямолинейности, открыто тенденциозного подчеркивания черт революционности и бунтарства, какие были характерны для трактовки Мейерхольда. Ему были чужды нарочитая примитивизация, огрубление образа. Он видел его многогранным, сложным и противоречивым. Но в то же время некоторая общность позиции Мейерхольда и Вахтангова заключалась в том, что оба они хотели показать Гамлета не безвольным, мрачным, колеблющимся, а сильным, мужественным, действенным.
Вспоминая в 1931 году о том, как Е.Б. Вахтангов десять лет назад читал «Гамлета» в Третьей студии МХАТ, Б.Е. Захава рассказывал, что сама эта читка сохранилась в его памяти как «блестящее художественное произведение». Захава помнит, что Евгений Богратионович, читая роль Гамлета, подчеркивал волевые, мужественные, действенные черты, а не моменты колебаний и сомнений. Вахтангов говорил студийцам, что Гамлет «умней, хитрей и действенней всех окружающих», что он необычайно стремителен в осуществлении тех целей, которые он себе поставил.
О беседах Вахтангова с учениками о том, «ради чего» Третья студия собиралась ставить «Гамлета», сообщает Р.Н. Симонов в статье «О традициях режиссуры Е.Б. Вахтангова». Правда, Р.Н. Симонов оговаривается, что у него нет точной записи этих бесед и он передает лишь свое восприятие их, но, надо думать, «зерно» вахтанговского замысла запало в его памяти и передано им в основном точно. Вахтангов, как свидетельствует Симонов, говорил, что «Гамлет» — «самая правдивая трагедия», близкая и понятная всем. В ней показано вступление страстного и умного человека в борьбу со злом, «носителями которого являются представители жестокого, ограниченного и тупого феодального мира... Тут нет «безволия» Гамлета. Наоборот, он действенно преодолевает и в самом себе все, что идет от слабости воли, мешающей его борьбе. Образ Гамлета, как и все шекспировские образы, противоречив и сложен. Тут помимо чистоты, честности, благородства есть и лирическая взволнованность, и сатиричность, и ироническая острота, и юмор, здесь мы найдем и благодушие, как и суровость и страстную ненависть к врагам»157. Так же как и для Мейерхольда, «Гамлет» для Вахтангова был предлогом поисков новой современной театральной формы, новых путей и средств сценической выразительности в борьбе с натуралистическим и «бытовым» театром.
Понимание Гамлета как революционера и бунтаря, так характерное для Мейерхольда во времена Театра РСФСР I, в последующие годы приобретает несколько иное значение и смысл. Уже в брошюре «Амплуа актера», составленной В.Э. Мейерхольдом, В.М. Бебутовым и И.А. Аксеновым и изданной в 1922 году, роль Гамлета отнесена авторами к амплуа «Неприкаянный или отщепенец (инодушный)»158, наряду с такими ролями, как Иван Карамазов, Карено, Протасов, Арбенин, Печорин и другими. Тема человека, вступившего в конфликт с обществом, социального отщепенца, бунтующего, находящегося в разладе с окружающим его миром, очень важна не только для уяснения подхода Мейерхольда к трактовке Гамлета, но и в более широком плане. Отзвуки этой темы, как мы увидим в дальнейшем, можно обнаружить во многих постановках Мейерхольда 20-х и 30-х годов, где образы социальных отщепенцев, страдающих, неустроенных в жизни людей, при ближайшем рассмотрении обнаруживают «гамлетовский к о м п л е к с», отмеченный печатью трагического.
Чрезвычайно характерно, что хотя Мейерхольд отрицательно отнесся к постановке «Гамлета» в МХАТ II, которую он видел в декабре 1924 года, М.А. Чехов своим исполнением центральной роли не мог не взволновать его. Мейерхольда не обманули ни мнимая революционность режиссерской концепции, изложенной в печатной программе, ни то, что Чехов подчеркивал, что Гамлет восстал на зло мира, и с середины спектакля не выпускал из рук обнаженного меча. «Не только меч, возьми хоть пушку, целую артиллерию вывези на сцену, все равно Чехов — Гамлет не убедит в том, что он революционер», — восклицал Мейерхольд. Он говорил 1 января 1925 года коллективу своего театра, что Гамлет Чехова не созвучен нашей современности, так как изображен «мистиком», «отшельником»159. Полемизируя с М.А. Чеховым, противопоставляя ему свое понимание образа Гамлета, Мейерхольд, так же как позднее и Акимов, опирался на первоисточник сюжета, то есть на сагу об Амлете. Вольно излагая отдельные эпизоды, прочитанные им в «Трагических историях» Бельфоре, он говорил: «Там сказано: Гамлет был шутник, иногда пойдет во двор, вываляется весь в навозе, ходит грязный по дворцу... Вот какой Гамлет. Таков ли Гамлет у Чехова? Конечно, нет». В.Э. Мейерхольд подчеркивал, что при постановке этой трагедии театр обязательно должен учитывать «ту легенду, которая легла в основу «Гамлета» Шекспира». В качестве примера он приводил и другую сцену из «легенды» — в спальне королевы, куда Гамлет приходит для объяснения с матерью160. Но если Мейерхольд при этом специально оговаривался, что не следует понимать его буквально и что он не склонен утверждать, что именно «надо так делать», то Акимов, как мы помним, построил на описании из Бельфоре целую сцену мнимого сумасшествия Гамлета, ставшую одним из «сенсационных» моментов его постановки.
Может быть, именно в противовес мрачной, мистической трактовке «Гамлета» в МХАТ II в мейерхольдовских замыслах середины 20-х годов все большее и большее место начинают занимать черты иронической издевки, эксцентриады. Хотя «Гамлет» в этот период реально и не планировался в репертуаре ГосТИМа, Мейерхольд все же намечал в 1925—1926 годах начать работу над ним, и В.В. Дмитриев по его заданию разрабатывал новый проект «вещественного оформления» в конструктивистском духе. В письмах 1925 года, еще до начала работы над «Ревизором», Дмитриев извещал Мейерхольда, что он «выдумал разные штуки в установке для «Гамлета» весьма любопытного свойства»161. Этот новый гамлетовский макет, сделанный из меди и железа, был совершенно необычен. Основной принцип его заключался в следующем: в центре установки помещался огромный медный круг, то сверкающий, «как солнце», то, в зависимости от изменения освещения, принимавший различные цветосветовые оттенки; этот круг мог быть поставлен вертикально — тогда его блестящая полированная поверхность служила как бы экраном, фоном, на котором четко рисовались фигуры актеров, то наклонно или горизонтально — и тогда он превращался в игровую площадку, а актеры должны были попадать на нее, поднимаясь по боковым лестницам. По словам Дмитриева, Мейерхольд ставил перед ним задачу взрывать застывшие, «окаменелые традиции», «ошарашить зрителя», искать неожиданные парадоксальные приемы, делающие спектакль современным по форме, помогающие режиссеру строить действие как «монтаж аттракционов»162.
«...Мы готовим себя к трагедии, — говорил Мейерхольд 1 января 1925 года, — а к великой трагедии можно подойти только путем комедии... мы подходим именно путем трюков...»163. В 1929 году на одной из лекций студентам ГЭКТЕМАСа он заявил: «Гамлет — обычно мрачный персонаж. Но в его роли есть комические реплики. По моему плану Гамлета должны играть двое (мрачный и веселый). Вовсе не раздвоение личности, а в аспекте «шуток, свойственных театру»164. Здесь опять мы видим и желание ошарашить зрителя, и характерный для. Мейерхольда мотив «подмены», мотив «двойника», и знакомый уже нам контраст возвышенно-патетического и буффонного, грубо комического. Несомненно, в этом проявились и черты гротеска, одной из особенностей которого, по словам Мейерхольда, является намеренное переключение из одного только что постигнутого плана в другой, совсем неожиданный для зрителя, «умышленная утрировка и перестройка (искажение) природы и соединение предметов несоединяемых ею...»165.
В одном из своих выступлений 1927 года Мейерхольд вспоминал: «...я так прочитал «Гамлета», что в моем представлении по сцене ходят два лица, и когда я собрался ставить этого самого «Гамлета», то я придумал на роль Гамлета занять двух актеров сразу, причем один Гамлет будет играть одну часть роли, а другой актер — другую. Таким образом, получается такая сцена: один Гамлет начинает произносить «Быть или не быть», а другой его одергивает и говорит: «Ведь это же мой монолог», — и начинает жарить. Первый говорит: «Ну, я пока посижу, поем апельсин, а ты продолжай дальше»166. У Мейерхольда возникла даже мысль, что роль Гамлета в его постановке должны были играть одновременно мужчина и женщина, чередуясь в отдельных сценах.
В высказываниях Мейерхольда о «Гамлете» в этот период шутливое, комедийное часто оттесняло трагическое. Примером может служить хотя бы трактовка сцены с Призраком. Мейерхольд был обеспокоен тем, что Репертком в те годы возражал против показа на сцене духов и привидений, и он решил (так же как несколько лет спустя и Н.П. Акимов) изобрести трюк с Духом, чтоб «обезвредить в идеологическом отношении» эту сцену. Однажды Мейерхольд рассказал актерам, что он придумал забавный трюк в плане «шуток, свойственных театру», и хочет поставить сцену с Призраком отца Гамлета так, чтоб в ней не было ни намека на мистику, никаких «зовов сверхъестественного мира». Необычайно уморительно, под гомерический хохот присутствующих Мейерхольд показал, как Призрак будет вылезать из какого-то сундука, в галошах, с зонтом в руках! Мейерхольд был доволен этим эксцентрическим, почти клоунски-цирковым номером, очень удавшимся ему, и говорил, что хочет обязательно сам сыграть в спектакле эту роль, лучшую роль Шекспира-актера. Конечно, это было талантливое озорство, шутка, лишь один из многочисленных экспериментов Мейерхольда, которые он проводил, чтобы найти нужное решение, и я, возможно, и не стал бы упоминать о нем здесь, если бы не обнаружил в одной из стенограмм Всеволода Эмильевича следующие его слова о Духе отца Гамлета: «он может вылезти из моря, из сундука, может колокольня представиться, как эта тень»167.
К сожалению, о мейерхольдовском «Гамлете» середины 20-х годов мы вынуждены судить лишь по этим случайным, часто противоречивым высказываниям и намекам. Несомненно, что если бы Мейерхольд поставил в те годы «Гамлета», многое оказалось бы совершенно иным, неожиданным, вскрылось бы то, что он, порой склонный к мистификации, ревниво таил от всех и что составляло внутреннюю сущность его замысла. Мейерхольд стремился применять оружие иронии и сатиры как средство раскрытия глубокой философской проблематики. Но порой в погоне за парадоксальностью и остротой решения впадал в крайности.
Акимовская постановка «Гамлета» в театре имени Евг. Вахтангова кровно задевала Мейерхольда, делая ненужным и бессмысленным продолжение дальнейших поисков, основанных на внешней сенсационности и эпатировании. Кроме того, «перекрыть» Н.П. Акимова в выдумке, в любви к ироническому трюку, в желании непременно сделать «все наоборот» было бы, пожалуй, трудно даже самому Мейерхольду. Но самое главное заключалось в том, что он к этому времени утратил уже интерес к «разоблачению», пародированию великого произведения. Углубляясь в «Гамлета», он все больше и больше ощущал себя во власти трагизма темы. Яростно нападая на вахтанговцев, упрекая их в искажении классики, в том, что своим спектаклем они помешали ему осуществить «Гамлета» и дискредитировали некоторые его идеи, Мейерхольд, в сущности, кривил душой, ибо сам он к этому времени отказался от многих своих прежних гамлетовских «заготовок» и уже начал поиски в совершенно ином направлении168.
На первый взгляд может показаться странным и необъяснимым, что Мейерхольд, так ратовавший за Гамлета революционера и бунтаря, внутренне здорового, мужественного, цельного, на пороге 30-х годов приходит к мысли, что лучшим исполнителем задуманного им образа может быть... М.А. Чехов — актер, испытавший трагический разлад с революционной действительностью, покинувший родину и находившийся в то время уже в эмиграции!
Много раз, еще в Москве, Мейерхольд приглашал М.А. Чехова играть в его театре. При встрече в Берлине (это было за несколько лет до акимовского «Гамлета») Мейерхольд возобновил свое предложение. Сам Чехов так описывает это в своих мемуарах: «Зная мою любовь к «Гамлету», он сказал, что по возвращении в Москву будет ставить эту трагедию. Он начал рассказывать мне план своей постановки и, когда увидел, что я слушаю с увлечением, — остановился, хитро покосился на меня из-за большого своего носа и сказал: А вот и не расскажу. Вы украдете. Приезжайте в Москву, поработаем вместе».
Несомненно, что, приоткрывая свой постановочный замысел «Гамлета», Мейерхольд понимал, что М.А. Чехова, который вновь в эти годы был захвачен гамлетовской темой и мечтал выступить в этой роли за границей, нельзя соблазнить поверхностной выдумкой или внешним трюком. И если Чехов, по его словам, слушал эти мейерхольдовские рассказы «с увлечением», значит, было в них что-то, что могло завладеть его воображением художника и мыслителя.
Мейерхольд всегда относился с огромным восхищением к Чехову-актеру, ценил его трепетный, острый, болезненно-парадоксальный гений. Его поражали изумительная способность Чехова к импровизации, умение быть «жонглером чувств», смело и дерзко, по-чаплиновски, балансировать на грани трагедии и клоунады, ломая привычные эстетические нормы. В 1921 году в Третьей студии МХАТ Мейерхольд сделал специальный доклад о творчестве М.А. Чехова, характеризуя его как «изумительного актера наших дней». В одном из печатных отчетов об этом докладе мы читаем: «Чехов от гротеска. Гротеск для Мейерхольда единственно приемлемая форма театра, через которую должно пропускать и юмор, и трагедию, и буффонаду...» В Чехове — Хлестакове Мейерхольд увидел «откровение для актерского творчества и смелый путь к театру гротеска»169. По мнению театральной критики тех лет, в таком «духовно-богатом и технически-изощренном актере, как Чехов», воплотились «пылкие мечтания и дерзкие пророчества» практикой и теоретиков театра. Как верно заметил в те годы П.А. Марков, «Чехов работает по системе Станиславского, но и Мейерхольд, вероятно, с радостью встретил бы Чехова в своем театре технического мастерства»170. И действительно, Мейерхольд мечтал осуществить своего «Гамлета» с участием Чехова. Именно актер такого дарования, как Чехов, совмещающий в себе трагика и клоуна, игравший такие роли, как Эрик XIV и Хлестаков, Гамлет и Мальволио, нужен был Мейерхольду, чтобы воплотить все им задуманное.
В сближении Мейерхольда и Чехова в середине 20-х годов роль посредника играл Андрей Белый. После выпуска «Ревизора» Мейерхольд начал работу над постановкой «Москвы» А. Белого в своем театре. Белый в это время был необыкновенно увлечен искусством М.А. Чехова. На сцене МХАТ II шла инсценировка его романа «Петербург», где Чехов с исключительным успехом играл роль царского сановника, старика Аблеухова. По свидетельствам современников, Белый много раз смотрел Гамлета — Чехова и говорил о нем без конца со страстностью, влюбленной восторженностью и волнением. В то же время Белый выступал неистовым защитником и пропагандистом мейерхольдовского «Ревизора», видя в нем художественное прозрение, «узнание» Гоголя. «...У Чехова — «Гамлет», у Мейерхольда — Гоголь» являлись, по его мнению, своего рода трамплинами для «прыжка в будущее»171. Белый мечтал творчески свести Мейерхольда и Чехова, двух выдающихся художников современности, способных к широким философским обобщениям, к символическому ви́дению мира. «Что бы получилось, если бы они соединились!»172 — возбужденно восклицал он.
И на самом деле, эти яркие своеобразные художники, которым так и не суждено было встретиться в совместной работе, творчески тяготели друг к другу. Оба они несли в своем искусстве большие философские темы, оба стремились к театральной эксцентрике и гиперболе, к обостренному выявлению внутреннего ритма, к музыкальной лепке образов, к гротескно-символическому обобщению. В увлечении творчеством М.А. Чехова с его чудовищными контрастами и внутренними противоречиями «настоящее» и «будущее» искусства Мейерхольда причудливо сплеталось с его «прошлым», которое нередко прорывалось на поверхность.
«Образы Мейерхольда темные, страшные, все похожие на кошмар», — писал впоследствии Чехов, воспринявший прежде всего мрачную, трагическую сторону мейерхольдовского творчества. И Мейерхольд в образах, созданных мятущимся и смятенным актером Чеховым, ощущал свойственные ему самому тревогу и смятение, чувство «жизнебоязни», внутренний разлад с окружающей его действительностью. Ведь и Мейерхольду так близка была трагическая тема надвигающейся катастрофы и гибели, которая звучала и в «Бубусе», и в «Мандате», и в «Ревизоре». Но даже в предреволюционные годы Мейерхольд не только сознавал неизбежность приближающейся гибели «старого мира», но чутко улавливал и нарастание революционных взрывов, «отдаленного восстания надвигающийся гул». И теперь пафос гибели и страдания, мотивы «апокалиптики XX века», звучавшие в творчестве М.А. Чехова и в его «Гамлете», лишь частично перекликались с его собственными представлениями, но не совпадали с ними. Мейерхольд не мог и не хотел в «Гамлете» только повторять уже созданный Чеховым образ, тем более что антропософическая концепция, положенная в основу спектакля МХАТ II, вызывала в нем чувство активного неприятия.
Мейерхольд строил образ своего Гамлета с учетом актерских возможностей Чехова, особенностей его таланта. Понимание Гамлета как мстителя, восставшего на борьбу с темными силами «мирового зла», полного страстной волевой активности, не рассуждающего перед тем, как начать действовать, но «постоянно пребывающего в стихийной борьбе против всего, что олицетворяет собой король», — так характерное для М.А. Чехова, — отвечало представлениям Мейерхольда о Гамлете-мятежнике, и при активном вмешательстве режиссера и кардинальном идейном переосмыслении могло в итоге дать Гамлета-революционера. Мейерхольда привлекало также и то, что чеховский «волевой», «экспрессивный», «динамический» Гамлет был полной противоположностью тому философу, охваченному мучительно ищущей мыслью, каким играл его Качалов.
И хотя Мейерхольд обещал Чехову полную творческую свободу, он рассчитывал, что сумеет увлечь его своим замыслом, сумеет переосмыслить его Гамлета, преодолев в нем черты обреченности, болезненной надломленности и идейной ущербности, направив мысль и фантазию актера в нужном режиссеру направлении. Но Чехов был слишком индивидуально неповторимым, сложным и внутренне сложившимся художником, со своей, глубоко выстраданной им темой, чтобы стать «материалом» чужого замысла. Он увлекался талантом Мейерхольда и в то же время боялся его, боялся подпасть под его влияние. Зараженный идеями религиозно-философского проповедничества, учением Рудольфа Штейнера, он не мог удовлетвориться только актерской работой, тем более в «Гамлете», постановку которого, как мы знаем, он мыслил как первый шаг к осуществлению своего «нового театра». Он хотел, как это и было в МХАТ II, быть «диктатором», стоять во главе театра, определять его идейно-творческие позиции, вести за собой своих приверженцев.
Мейерхольд так и не осуществил постановку «Гамлета». Но в «Списке благодеяний» Юрия Олеши, поставленном им в 1931 году, тоскующая фигура принца датского в черном плаще, ботфортах, с рапирой в руках появлялась на сцене в трех эпизодах спектакля173. В пьесе Олеши, претендующей на философскую значительность и глубокомыслие, рассказывается о трагической судьбе актрисы Елены Гончаровой, находящейся в состоянии глубокого духовного кризиса. Она не хочет играть в пьесах, изображающих нашу современность, — они кажутся ей схематичными, нехудожественными, а «Гамлет», в котором она выступала как режиссер и как исполнительница главной роли, как она думает, не нужен «новому человечеству». Одинокая и опустошенная, мечется она в поисках выхода, находясь в вечном разладе с самой собой. Чтоб избавиться от этой «двойной жизни», она уезжает за границу, надеясь там, на «камнях Европы», обрести утраченную внутреннюю гармонию, «свободу личности», право на «свободу творчества», якобы подавляемые в стране строящегося социализма.
Даже при беглом знакомстве со «Списком благодеяний» нельзя было не ощутить, что и образ Елены Гончаровой, и сама «гамлетовская тема» пьесы, так волновавшие Мейерхольда и Олешу, имеют непосредственное соприкосновение с М.А. Чеховым, во многом навеяны его судьбой. Скажу больше: «Список благодеяний» для Мейерхольда и для автора пьесы, внутренне пронизанный полемикой с Чеховым, должен был прозвучать своего рода предостережением. И когда я после одной из репетиций «Списка» спросил об этом Всеволода Эмильевича, он подтвердил мою догадку и с таинственным видом сообщил, что «кое-что» из своих берлинских разговоров с М.А. Чеховым он пересказал Ю.К. Олеше, когда пьеса еще только задумывалась, прося его использовать этот материал, полемически заострив некоторые положения и ситуации. Лишь много лет спустя, после выхода за границей мемуаров М.А. Чехова, мне стало ясным, что именно мог иметь в виду тогда Мейерхольд.
Один из эпизодов пьесы, названный автором «Флейта», происходит за кулисами парижского мюзик-холла, носящего гордое наименование шекспировского театра — «Глобус». Елена Гончарова, одетая в костюм Гамлета, просит директора Маржерета прослушать ее в сцене с флейтой. Не читавший Шекспира, не знакомый с «Гамлетом», Маржерет принимает Гончарову... за флейтистку. Он оскорбляет Гончарову, предложив ей, известной трагической актрисе, дебютировать, исполняя на флейте эксцентрически непристойный номер, могущий вызвать «сенсацию» у его публики, С необыкновенной остротой и силой сатирического гротеска раскрывал здесь Мейерхольд банкротство представлений Гончаровой о «свободе» художника в буржуазном мире.
Сопоставим эту сцену с рассказом М.А. Чехова о его первой встрече с крупным берлинским антрепренером, «ценителем искусства». В 1928 году, оставшись за границей, он, подобно Елене Гончаровой, решил впервые выступить перед иностранной публикой в роли принца датского. Исполненный радужных надежд, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке в руках (уже был выучен первый акт) попадает он в контору берлинского импресарио. Но предоставим слово самому М.А. Чехову:
«— Ну-с, — сказал, наконец, известный антрепренер, — мы будем делать с вами хорошие дела!
Я слегка поклонился и красиво развел руками (дескать, весь к вашим услугам)... «Моисси приезжал с Гамлетом в Москву, а я вот в Берлин, — думал я с приятностью, — ответный, как бы, визит».
— Танцуете? — спросил вдруг антрепренер и, подождав несколько секунд ответа, повторил свой вопрос, для ясности попрыгав руками в воздухе.
— Я?
— Вы.
«Какие же в «Гамлете» танцы? — соображал я, — фехтование есть... пантомима... Какая неприятная ошибка. Он должен был бы знать».
— Зачем танцевать? — спросил я с улыбкой.
— Мы начнем с кабаре. Я сделаю из вас второго Грока*. На инструментах играете? Поете? Ну, хоть чуть-чуть?
— Простите, — перебил я его, холодея, — я, собственно... Гамлет... я приехал играть Гамлета...
— Гамлет не важно, — отмахнулся антрепренер, — публике нужно другое. Условия мои таковы: годовой контракт со мной. Такой-то месячный оклад. Имею право продавать вас по своему усмотрению, включая фильм.
Не то пауза наступила, не то я провалился куда-то. И, как у героя Достоевского, в одну секунду в моей голове пронеслось множество мыслей. В России... два года боролись со мной и не могли снять моего «Гамлета», а здесь, без борьбы, единым словом, человек уничтожает мечту, смысл и цель! В чем его сила? В деньгах? Что же, это и есть капиталистический строй?»174
Несмотря на то, что в эпизоде с флейтой в «Списке благодеяний» ситуация была намеренно трагически заострена и гиперболизирована, а Чехов ведет свой рассказ в тоне мягкого юмора — параллель между ними очевидна. Чехову, как и Елене Гончаровой, раскрылись глаза на многое. После беседы с антрепренером с горечью и тоской вспоминал он Москву, где Шекспир обрел свою вторую родину, где на «Гамлета» зрители «ходили с благоговением», вспоминал Станиславского, Шаляпина, воспитавших в нем «веру в великую миссию театра». Он, мечтавший о театре высокой трагедии и комедии, призванном воплощать «величие человеческого духа в его извечной борьбе с бедствиями человечества», все больше и больше трагически ощущал ненужность своего «духовного» искусства в обстановке буржуазно-коммерческого театра, крах своих иллюзий и свое одиночество.
Во время пребывания в Германии М.А. Чехов поставил «Двенадцатую ночь» Шекспира для театра «Габима» и выступал у М. Рейнгардта в роли клоуна Скида в спектакле «Варьете». Но, играя на немецкой сцене, он снова был одержим идеей «Гамлета».
С несколькими бывшими в то время в Берлине русскими актерами, он на дому начал репетиции «Гамлета». Это была интимная, «комнатная» постановка, в духе студийных исканий. «Трагедию Шекспира пришлось сократить и приспособить последовательность сцен таким образом, чтобы каждый из немногих участников мог появляться по нескольку раз в различных ролях. В сцене «Мышеловки», например, удалось так построить мизансцены, что король и королева, смотревшие спектакль, в известные моменты, незаметно для публики, покидали свои троны и появлялись в качестве театральных «короля» и «королевы» в пантомиме. И затем снова оказывались сидящими на троне, когда подходило время их реплик».
Вспоминая о том времени, М.А. Чехов пишет: «Я не встретил и следов интереса к моему «Гамлету»... Дон-Кихот во мне недоумевал. Он готов был разъезжать по улицам Берлина в цирковом фургоне, давать на перекрестках представления шекспировской трагедии и произносить страстные, зажигательные речи... Все чаще вспоминался русский актер и русский зритель. Зарождалась настоящая, глубокая любовь к родному театру...»175.
Мейерхольд следил по доходившим до него слухам за тем, как складывалась артистическая судьба М.А. Чехова за рубежом, знал об уходе его от Макса Рейнгардта, о неустойчивых попытках осуществить постановку «Гамлета» в Берлине и Париже, о его работах в Латвии и Литве176. Мейерхольд видел, что, оторванный от родной почвы, талант М.А. Чехова чахнет, не получает развития, а мечты о «новом театре» гибнут одна за другой. И Мейерхольд надеялся на возвращение М.А. Чехова в Москву и на совместную работу с ним. «Балтрушайтис обещал мне, что Чехов будет у нас»177, — говорил он в середине 30-х годов.
Мейерхольд годами вынашивал свои любимые творческие темы, которые зрели в его воображении. В первую очередь это относится к его «Гамлету». В минуты откровенности он признавался в том, что всю его творческую жизнь можно считать как бы подступом к «Гамлету», что во многих его постановках последних двадцати лет в скрытом виде уже были заложены фрагменты его «будущего» (но так и не родившегося) шекспировского спектакля. «Но я их так хитро спрятал, что вы их не увидите, — говорил он. — Мой «Гамлет» — это будет мой режиссерский итог. Там вы найдете концы всего»178.
И действительно, эскизы к «Гамлету», отзвуки гамлетовских мотивов в разных аспектах и вариациях можно обнаружить в целом ряде его режиссерских работ, совершенно несхожих между собой, сделанных в разные годы. Так, например, тема страдающего, душевно неустроенного человека, социального отщепенца, бунтующего, находящегося в непримиримой борьбе с окружающим его миром, где царит общественная несправедливость, где гибнет все человеческое, эта тема, навеянная «Гамлетом», может быть прослежена у Мейерхольда и в образе раздвоенного, обреченного Германа, в постановке «Пиковой дамы», и в трактовке Чацкого в «Горе уму», и даже в его «Лесе». По отзывам очевидцев, Мейерхольд на репетициях замечательно показывал Несчастливцева, порой давал его образ как бы «сквозь призму» Гамлета. Это был мечтатель, романтик, охваченный видениями, как Гамлет, видящий тень отца в своем воспаленном воображении. Таким запомнился Мейерхольд — Несчастливцев в эпизоде с Аксюшей («Между жизнью и смертью») или когда он, запахнувшись в плащ, с вытянутой вперед рукой пробегал через сцену, протяжно поющим голосом произнося слова Тени из «Гамлета»: «Помни обо мне...» В исполнении Мейерхольдом финальной сцены одиночество Несчастливцева, его конфликт с обществом — дремучим страшным «лесом» человеческих душ — были окрашены в глубоко трагические тона179.
«Гамлетовский комплекс» Мейерхольда отчетливо ощутим и во «Вступлении» Ю. Германа. Мейерхольд трактовал эту пьесу как трагедию. Он считал, что для того чтобы вскрыть особую напряженность коллизий, трагических конфликтов, вырастающих на почве капиталистического строя жизни, необходимо «использовать приемы шекспировского театра», так как Шекспир велик именно тем, что умел показывать со сцены «сложные коллизии как результат столкновения противоречии»180. Мейерхольда, как обычно, в постановке интересовала одна какая-нибудь роль, через которую он, как прожектором, освещал сущность своего замысла. Чаще всего это была «любимая» роль, которая чем-то задевала его, была ему близка и которую он сам хотел бы сыграть. Такими ролями были для него Несчастливцев, Чацкий, Фейервари в «Учителе Бубусе», немецкий инженер Гуго Нунбах во «Вступлении», выброшенный из жизни, ввергнутый «в пучину бедствий» голода и безработицы.
В образе этого несчастного, отверженного человека, которому нет места в «волчьем» бездуховном мире капитализма, с неожиданной остротой и страстью прозвучала трагическая тема. Здесь были и одиночество, горечь, страдание и гневное обвинение антигуманистического общественного строя, уродующего людей, и тревога за судьбы мира, и в то же время лирическая мечта о человечности, о праве человека на свободу и счастье... И если в «Лесе» образ Несчастливцева оказался лишенным в спектакле силы подлинного трагизма, то во «Вступлении» во многом благодаря игре Л.Н. Свердлина — Нунбаха режиссерский замысел получил глубочайшее воплощение. Отзвуки гамлетовской темы можно обнаружить и в некоторых эпизодах «Командарма 2» И. Сельвинского, который сам Мейерхольд считал «настоящим шекспировским спектаклем»181, отличающимся суровой простотой и монументальной выразительностью.
В «Списке благодеяний» гамлетовская тема для Мейерхольда сливалась с трагической судьбой одинокого, обездоленного жизнью человека, страдающего от общественной несправедливости. Это ощущалось и в сцене с Маржеретом и особенно в следующем за ней эпизоде, где Гончарова в костюме Гамлета ночью на улице встречается с нищим, бездомным бродягой, обнаруживающим сходство с Чарли Чаплином. (Характерно, что в декоративном оформлении этого эпизода, где Гамлет ходит среди вытянутых кверху «ширм», несомненно ощущался отзвук влияния Крэга, хотя Мейерхольд и хотел, чтоб у зрителя не возникало прямых ассоциаций.)
Гамлет и Чаплин! В мерцающем свете уличного фонаря встречаются они, два отверженных, лишних человека, выброшенных «на дно» большого капиталистического города, одинокие в этом неблагополучном для них мире. Мейерхольд говорил на репетициях, что Чаплин для него — трагический Гамлет современности182. В том, что Чаплин оказался таким же лишним и ненужным, как и Гамлет, Мейерхольд видел глубокое символическое обобщение, образное воплощение известной мысли К. Маркса, что капиталистический строй по самой природе своей враждебен культуре и искусству.
В «Гамлете», так же как и в произведениях Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Мейерхольд всегда ощущал «взлет бунтаря, взрывающего... старый мир»183. В предшествующих вариантах, начиная со Студии на Бородинской, Гамлет всегда представлялся Мейерхольду сильным, мужественным, динамически экспрессивным. Теперь же он стал казаться ему более женственным, камерным, элегичным, музыкально-неуравновешенной натурой, человеком воображения. В этом новом лирическом образе было что-то, что вызывало ассоциации с Гамлетом — Моисси. Мейерхольд теперь выдвигал на первый план уже не активные, волевые, героические черты, а обаяние Гамлета, его слабость, незащищенность, внутренний разлад с враждебным ему обществом, в котором он томится. Этому способствовало и то, что к началу 30-х годов гамлетовские искания Мейерхольда осложнились тем, что З.Н. Райх, мечтавшая стать трагической актрисой, решила, подобно Саре Бернар, играть роль Гамлета. Опыт «Списка благодеяний», где по ходу спектакля Райх несколько раз появлялась в черном костюме датского принца, с плащом, перекинутым через плечо и тянувшемся за ней, как шлейф, не только не охладил, но еще более укрепил ее намерения, и Мейерхольд вынужден был с этим считаться184. Я помню, как в 1931 году, после выпуска «Списка благодеяний», на собрании труппы ГосТИМа Мейерхольд объявил, что одной из ближайших постановок театра будет «Гамлет» с Зинаидой Райх в главной роли, чем вызвал удивление среди актеров и ироническую реплику Сергея Мартинсона, что в таком случае он претендует на роль... Офелии. Итак, Мейерхольд должен был ставить «Гамлета» для Райх, применяясь к ее возможностям как актрисы, и в связи с этим значительно изменить, перестроить свою трактовку центрального образа.
Гамлет, по Мейерхольду, — интуитивен. Это не философ, размышляющий о судьбах мира. Мысли рождаются у него стихийно, неожиданно. Ему свойственна импульсивность, способность зажигаться и тухнуть, жить в мечтах. Как всякий поэт, витающий в грезах, полных видений, эмоциональных порывов, взлетов мысли, он кажется его окружающим необычным, странным... Он болезненно переживает трагизм своего положения, свое бессилие и одиночество, как поэт, болезненно ощущая глубину разлада с действительностью, с миром, ставшим тюрьмой. По словам Н.И. Боголюбова, Мейерхольд хотел, чтобы образ Гамлета в исполнении З.Н. Райх прозвучал в музыкально-лирическом ключе, как бы «с музыкой Моисси»185. В 30-х годах, в беседе с А.К. Гладковым, Мейерхольд сказал: «Если говорить об актерской мягкости, то в первую очередь нужно вспомнить удивительного Сандро Моисси... У нас в России эталоном мягкости мы считаем Качалова, но С. Моисси выдерживал с ним соревнование, и я даже считаю его победителем». Мейерхольда восхищало в Моисси то, что, несмотря на присущую ему мягкость, он «всегда был мужествен и звонок», покорял удивительной музыкальностью речи, «какой-то волшебной мелодичностью, однако ничего не имеющей общего с декламационным распевом а ла Остужев...»186. Применяясь к артистическим данным Райх, Мейерхольд не заострял, как прежде, свое внимание на действенно-динамической разработке партитуры роли. Теперь он утверждал, что Шекспир «весь в словах», и ставил перед актрисой задачу в первую очередь овладеть музыкально-речевой стороной роли, ее лирическим подтекстом.
Но дело заключалось не только в Райх. Наряду с трагизмом темы Мейерхольда и ранее волновала и захватывала лирическая струя, имеющаяся в «Гамлете», свойственная его собственному таланту, которую он в период утверждения конструктивизма и агитпублицистического театра порой подавлял и заглушал в себе. По рассказам Л.Н. Оборина, близко стоявшего в эти годы к Мейерхольду и Райх, Александр Моисси «притягивал» к себе Всеволода Эмильевича, который по-настоящему увлекался им, в его искусстве ища оправдания своего нового подхода к Гамлету187.
В 1924 году, во время гастролей Моисси в Москве, Мейерхольд восторженно отзывался о музыкальности его игры, о его технике, открывающей новые возможности сценического мастерства. Но тогда, именно в Гамлете, — и это характерно — он не принял Моисси, не принял душевную надломленность, обреченность, жертвенность, имевшиеся в трактовке артиста, сохранившей влияние декаданса. Эта трактовка резко расходилась с представлениями Мейерхольда тех лет о Гамлете-бунтаре и революционере. «...Мы восхищались его блестящей техникой, но Гамлета, близкого зрительному залу страны, процветающей под звездою Ленина, мы не видели», — писал Мейерхольд о Моисси в газете «Правда». Однако Мейерхольд оговаривался, что он не столько не согласен с игрой Моисси, сколько с режиссурой Рейнгардта: «В рейнгардтовской трактовке Гамлет — не наш Гамлет. Но, нам кажется, Моисси — наш»188. В последующие годы Мейерхольд пересмотрел свое отношение и к образу Гамлета, созданному Моисси. По-иному оценил он теперь мечтательность, поэтическую взволнованность его Гамлета, его душевную чистоту, тоску по идеальному в мире и людях, тонкость чувств, остроту лиризма. За слабостью и бессилием Гамлета Моисси он ощутил горькую, глубоко трагическую тему, в чем-то перекликающуюся с трагизмом «потерянного поколения», с образами Ремарка и Хемингуэя.
Как когда-то М.А. Чехов восхитил его своим исполнением Хлестакова, увлек настолько, что Мейерхольд, возбужденный к творчеству талантом артиста, сам решил ставить «Ревизора», ставить по-своему, так к началу 30-х годов увлечение искусством Моисси дало новый толчок его гамлетовским исканиям.
В поисках нового Гамлета и нового в «Гамлете» Мейерхольд своеобразие своего подхода начал теперь видеть в том, чтобы показать Гамлета юношей, почти отроком. Его как художника все больше и больше стал волновать светлый образ молодого Гамлета, нежного и в то же время мужественного, с тонкой, стройной фигурой, звонким голосом... Он считал, что Гамлет — «это гений в юношеской стадии, остро реагирующий на грубость и зло жизни, человек обреченный, несчастный, отверженный»189. Мейерхольд решительно восставал против Гамлета-мыслителя, против «скорбной задумчивости», «приставленного пальца ко лбу», психологической усложненности. «Это надоело»190, — говорил он. Ему казалось ошибочным, что знаменитые актеры, как правило, начинают играть Гамлета, лишь достигнув зрелого возраста и большого профессионального мастерства, утрачивая при этом свежесть и непосредственность чувств. Вот почему он намеревался пробовать в этой роли какого-нибудь молодого актера, чуть ли не выпускника театральной школы, отличавшегося искренностью, свежестью дарования, свободного от актерских «традиций» и рутины.
Мейерхольд полагал, что если Гамлету будет двадцать лет, как это указано в первом кварто 1603 года, а не тридцать, как во втором кварто, то целый ряд ситуаций пьесы прозвучит по-новому, приобретет большую трепетность и остроту191. Если же Гамлет будет, как обычно, взрослым мужчиной, то почва для трагедии, характер конфликта будут иными, так как зрелый, душевно сложившийся человек не станет так мучиться, не будет с таким отвращением, с такой напряженностью и болезненностью реагировать на измену матери, на всю гниль и мерзость жизни, впервые открывшиеся ему. Если Гамлет — юноша «переходного возраста», то мысли его о самоубийстве, его «женоненавистничество» по отношению к Офелии станут, как представлялось Мейерхольду, более органичными и убедительными.
Несомненно, в этом лирическом варианте мейерхольдовского Гамлета есть ряд моментов, сближавших его с тем трогательным и нежным образом, какой давал когда-то Моисси. Но, мечтая об ином, поэтическом Гамлете, полном непосредственности и чистоты, Мейерхольд видел этот образ более здоровым и цельным, без той внутренней надломленности и рафинированности, которые порой так сильно звучали у Моисси.
Возможно, что, думая о молодом Гамлете, Мейерхольд в чем-то отталкивался от формулы Ибсена: «Юность — это возмездие». В Гамлете он хотел воплотить черты, особенно свойственные юности, — обостренное чувство справедливости, жажду обновления существующих форм жизни, призыв к светлым романтическим идеалам, нетерпимость ко всему застойному, отжившему, консервативному, мешающему движению вперед. Его привлекали теперь не только образ Гамлета-революционера, но революционность самой темы, ее внутренний пафос, который он ощущал в столкновении «прошлого» с «будущим». (Самому Мейерхольду не удалось осуществить эксперимент с молодым Гамлетом, но эта его идея, реализованная Н.П. Охлопковым спустя два десятилетия на сцене Театра имени Вл. Маяковского с недавними выпускниками театральных школ — Михаилом Козаковым и Эдуардом Марцевичем в роли Гамлета, оказалась «созвучной времени», вызвала положительную оценку прессы и публики.)
Характеризуя в 30-х годах Маяковского-драматурга как глубочайшего выразителя нашей современности, Мейерхольд особенно подчеркивал гениальную способность поэта к предвидению, его умение заглянуть в «прекрасный мир будущего». И этим же прозрением будущего, по его мнению, был силен и Шекспир. Не случайно, что в своем «Слове о Маяковском» Мейерхольд говорил: «Гамлет» построен так, что вы чувствуете, что эта фигура стоит на берегу будущей жизни, а король, королева, Полоний — по ту сторону, позади»192.
В великих трагедиях Шекспира, будь то «Гамлет» или «Отелло», Мейерхольд хотел в первую очередь выявить основной идейный конфликт произведения, контраст двух мировоззрений, а не только контраст трагического и буффонного, который так занимал его прежде.
Итак, свыше двадцати лет мечтал Мейерхольд о постановке «Гамлета», готовился к ней. Противоречивость и парадоксальность его поисков — свидетельство того, что он, вечно мятущийся художник, не находил еще, несмотря на множество вариантов, точного и завершенного воплощения своих замыслов. Но как бы ни была странной и неожиданной амплитуда его колебаний в подходе к образу Гамлета — от Игоря Ильинского до Михаила Чехова, от Зинаиды Райх до Михаила Астангова и Евгения Самойлова, намечавшихся Мейерхольдом на роль Гамлета, от мужественного революционного борца, «ученика Йорика, шута» до лирического отрока, — всегда отчетливо ощущается стремление Мейерхольда найти свой образ принца датского, во что бы то ни стало отличный от образа, который был создан Качаловым. Нетрудно заметить, что это был все тот же затянувшийся на десятилетия спор с качаловской традицией понимания Гамлета. Спор, так и не законченный Мейерхольдом, оборвавшийся с его жизнью... Это был также и спор двух концепций, двух различных подходов к проблеме сценического мастерства193.
Как уже говорилось, Мейерхольд не принимал Качалова в Гамлете по мотивам, во многом сходным с мотивами Крэга. Гамлет Качалова казался ему утратившим «красоту театральности», слишком психологически усложненным, глубокомысленным, философичным. Ему были чужды в Гамлете черты духовного подвижничества, жертвенности, аскетизма, которые были свойственны первоначальной, дореволюционной трактовке Качалова. Но это был спор с прошлым качаловского толкования, без учета тех изменений, которые артист вносил в свою трактовку образа в послереволюционные годы. Спор, уже терявший в известной мере свое значение и смысл.
Показательно, что именно в последний период своего творчества, проходивший под знаком Пушкина и все возрастающего сближения со Станиславским, Мейерхольд высоко оценивает Качалова-актера, видит в его искусстве мудрую гармонию формы и содержания, артистизм, ясность и доступность сценического выражения. Это были годы, когда Мейерхольд, освободившись от груза «мейерхольдовщины», от схематизма, «левацких» загибов и трюков, пересматривал свое прошлое и призывал к высокому реализму и человечности. Пушкинские мысли о театре и искусстве стали для Мейерхольда высшим критерием. Он, по его словам, Пушкиным выверял свое и чужое творчество. «Пушкинское определение качеств Баратынского-поэта целиком, как мне кажется, приложимо к вашим качествам актера, — писал Мейерхольд Качалову в 1935 году. — Вот они, эти качества: «Верность ума, чувства, Точность выражения, вкус, ясность и стройность» (А.С. Пушкин)»194.
Мейерхольд все более и более осознавал, что путь к простоте и ясности, к «соразмерности и сообразности», к органическому слиянию внешнего и внутреннего, содержания и формы наиболее труден для художника. В период работы над оперой «Пиковая дама» и трагедией «Борис Годунов» он неоднократно говорил о «Гамлете», через Пушкина намечая свой путь к раскрытию Шекспира. Он мечтал теперь об актере, способном эмоционально заражать зрительный зал, призывал не к «театру трюков», а к «театру мысли» и видел назначение и сущность искусства сцены в умении ставить сложные, идейно-философские проблемы, будоражить ум и чувство аудитории, вызывать столкновение мнений, споры, дискуссии. В то же время он считал, что если нет новаторских поисков, изобретательства, дерзаний, то нет и искусства. Не случайно, что, находясь в 1936 году в Париже, Мейерхольд вел переговоры с Пикассо, приглашая его художником для «Гамлета», постановку которого он намечал в новом, строившемся по его проекту здании ГосТИМа, совмещающем сценическую площадку с ареной и открывающем новые возможности для обновления театрально-постановочных принципов195. Однако всем этим планам и намерениям не суждено было осуществиться.
Но и после закрытия ГосТИМа (1938), несмотря на тяжелое душевное состояние, Мейерхольд не оставлял мысли о «Гамлете». Он не чувствовал себя сломленным, все еще дерзал. Он признавался тогда И.Г. Эренбургу: «Я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался. Если бы и исчезли все пьесы мира, а «Гамлет» остался, то остался бы и театр...»196.
Теперь, оказавшись вне театра, он неоднократно говорил близким ему людям, что хочет написать книгу о своем неосуществленном, «воображаемом» спектакле «Гамлет», которую он называл «романом» или «видениями режиссера». Если справедливо наблюдение, что некоторые спектакли Мейерхольда порой становились как бы поэтической и лирической исповедью его самого, то это с полным правом может быть отнесено к задуманному им роману о «Гамлете». Замечательный режиссер, влюбленный в практику театра, он, в отличие от Г. Крэга, режиссера-мечтателя, обычно не любил фантазировать о той или иной постановке в отрыве от реальных возможностей ее осуществления. Теперь же, не связанный ничем, не ограниченный особенностями дарования исполнителя центральной роли, составом труппы, размерами и характером сценической площадки (что Мейерхольд всегда тщательно учитывал, составляя свой режиссерский план), он был полностью предоставлен своей фантазии и мог достичь предельного «самовыражения».
Представление о том, каким интереснейшим творческим документом могла бы стать эта книга, может дать рассказ о встрече Гамлета с Призраком, который в несколько измененной редакции Мейерхольд собирался включить в свой «роман режиссера». Вот этот отрывок: «Берег моря. Море в тумане. Мороз. Холодный ветер гонит серебряные волны к песчаному, бесснежному берегу. Гамлет, с ног до головы закутанный в черный плащ, ждет встречи с призраком своего отца. Гамлет жадно всматривается в море. Проходят томительные минуты. Всматриваясь вдаль, Гамлет видит: вместе с волнами, набегающими на берег, идет из тумана, с трудом вытаскивая ноги из зыбкой песчаной почвы морского дна, отец его (призрак отца). С ног до головы в серебре. Серебряный плащ, серебряная кольчуга, серебряная борода. Вода замерзает на его кольчуге, на его бороде. Ему холодно, ему трудно. Отец вступил на берег. Гамлет бежит ему навстречу. Гамлет, сбросив с себя черный плащ, предстает перед зрителем в серебряной кольчуге. Гамлет закутывает отца с ног до головы черным плащом, обнимает его. На протяжении короткой сцены: отец в серебре, Гамлет в черном, и отец в черном, Гамлет в серебре. Отец и сын, обнявшись, удаляются со сцены»197.
Считая Шекспира самым реальным из великих драматургов прошлого, Мейерхольд чутко ощущал поэтическое своеобразие ренессансного реализма, присущие ему «элементы фантастического». Мейерхольд считал появление на сцене духов и призраков одной из неизбежных условностей шекспировского театра. В этом отношении Е.Б. Вахтангов был близок Мейерхольду. По его мысли, тень отца Гамлета должна была появляться на сцене «в грохоте, звоне оружия. Она настолько должна быть театральной, что никакой мистики возбудить не могла»198. Но Мейерхольд нашел совершенно иные театральные средства для показа Призрака отца Гамлета, так же, как и Вахтангов, отвергая чуждый Шекспиру мистицизм. В отличие от Г. Крэга, для которого, как мы помним, уже самый факт присутствия на сцене духов, то есть символов сверхъестественного мира, исключал возможность реального толкования трагедий и придавал им мистический характер, Мейерхольд наделял Призрак отца Гамлета глубоко человеческими чертами, показывал, что он «способен зябнуть и любить, тяжело дышать от усталости и нежно обнимать». Мейерхольду было особенно важно, что Призрак, на щеке которого «замерзает слеза умиления», может ответить улыбкой на жест сына, укрывающего его плащом.
В задуманном им «романе» Мейерхольд хотел запечатлеть свое режиссерское видение «Гамлета», свое стремление к поэтическому театру, то богатство мыслей и ассоциаций, которое пробуждала в нем трагедия Шекспира. Эта книга мыслилась Мейерхольду отчасти и как творческое завещание. Он говорил: «Я не буду писать о себе «Моей жизни в искусстве», рассказывать, как я жил, боролся, ошибался, искал. Но в том месте, где Гамлет дает советы актерам, я хотел бы очень кратко и очень точно сказать, что думаю о театре, об искусстве актера, и это будет мой «символ веры», моя программа, вложенная в роман о «Гамлете».
Работа Мейерхольда и Вахтангова над «Гамлетом», так же как и Станиславского и Немировича-Данченко в последние годы их жизни (я коснусь этого в следующей главе), осталась лишь в сфере замыслов, творческих заготовок, планов, поставленных, но не решенных проблем. Осуществись эти замыслы, сценическая история «Гамлета» в русском театре 20—40-х годов была бы иной — несоизмеримо богаче, многообразнее, чем она сложилась в действительности. Это «гамлетовское наследие» основоположников советской режиссуры еще предстоит освоить нашему театру, ибо оно обращено в будущее. Без этого наследия корифеев советской режиссуры, так же как без учета последних шекспировских исканий Качалова, сценическая история «Гамлета» этого периода будет выглядеть обедненной и неполной.
Теперь, после затянувшегося экскурса, пора вернуться к основному герою этой книги — В.И. Качалову и его работе над образами Шекспира в советский Период.
Примечания
*. Грок — известный швейцарский клоун. — Примечание М.А. Чехова.
1. См.: М. Загорский, Шекспир в России. — «Шекспировский сборник, 1947», М., ВТО, 1948, стр. 99.
2. См.: Эм. Бескин, «Гамлет» в ширмах. — «Раннее утро», 28 декабря 1911 г.
3. В л. Азов, Художественный театр. «Гамлет», — «Речь», 5 апреля 1912 г.
4. В «Летучей мыши». — «Театр и спорт», 22 января 1912 г.
5. З. Шадурская, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Новая жизнь», 1912, № 2, стр. 164.
6. Л.Я. Гуревич, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Новая жизнь», 1912, № 4, стр. 202.
7. А.В. Агапитова, Летопись жизни и творчества В.И. Качалова. — В сборнике: «Василий Иванович Качалов». М., 1954, стр. 525.
8. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II (памяти В.И. Качалова), М.—Л., 1951, стр. 518.
9. В первом сезоне 1911/12 года «Гамлет» прошел в МХТ 23 раза (из них 15 спектаклей в Москве и 8 в Петербурге). В сезоне 1912/13 года «Гамлет» шел 18 раз, а в сезоне 1913/14 года 6 раз. Последний спектакль — 26 февраля 1914 года.
10. Николай Эфрос, В.И. Качалов (фрагмент), стр. 92—93.
11. В.И. Ленин, Революционный подъем (Соч., т. 18, стр. 86).
12. Из выступления А.К. Дживелегова на заседании Ученого совета ГИТИС им. А.В. Луначарского 23 декабря 1946 г.
13. Первый спектакль «Гамлета» был показан в Праге 18 сентября 1921 года в постановке Р.В. Болеславского и Н.Н. Литовцевой, художник И.Я. Гремиславский. Роли исполняли: Гамлета — В.И. Качалов, Клавдия — Н.О. Массалитинов, Гертруды — О.Л. Книппер-Чехова, Полония — П.А. Павлов, Офелии — А.К. Тарасова и М.А. Крыжановская, Лаэрта — И.Н. Берсенев, Горацио — П.Ф. Шаров, Первого актера — Г.М. Хмара, Розенкранца — С.М. Комиссаров, Гильденстерна — В.И. Васильев. В этой зарубежной редакции «Гамлета» только три основных исполнителя (В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова и Н.О. Массалитинов) играли те же роли, что и в московском спектакле 1911 года, а И.Н. Берсенев, игравший прежде Фортинбраса, перешел теперь на роль Лаэрта, в которой он выступал и позднее, в спектакле «Гамлет» в МХАТ II.
14. Из беседы с В.И. Качаловым, 17 сентября 1936 г.
15. Сергей Маковский, Гамлет — Качалов. — В сборнике: «Артисты Московского Художественного театра за рубежом», Прага, «Наша речь», 1922, стр. 51—52, 54, 55.
16. Влад. Азов, Художественный театр. «Гамлет». — «Речь», 5 апреля 1912 г.
В записях на полях текста роли «Гамлета» после слов «Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?» имеется характерная пометка, сделанная артистом, указывающая на религиозный оттенок в трактовке этой сцены в спектакле: пауза. Гамлет «стал на колени. Взор обращен в небо-общение с богом. Вопрос: «Объясни мне, боже!».
17. Некоторые рецензенты писали, что Крэг будто бы в угоду своему монодраматическому замыслу, чтобы превратить образ короля в злодея, намеренно сократил сцену молитвы, где король испытывает раскаяние и угрызения совести, однако эти упреки не соответствуют действительности. Сцена молитвы короля, разработанная Крэгом в 1910 году, была показана МХТ на генеральных репетициях, но потом сокращена по техническим причинам, так как из-за сложности передвижения «ширм» спектакль не укладывался в установленное время.
18. «Русское искусство за рубежом». — «Театральное обозрение». М., 1921, 15 ноября, № 1, стр. 15.
19. Сергей Маковский, Гамлет — Качалов. — В сборнике: «Артисты Московского Художественного театра за рубежом», стр. 48—50.
20. Ал. Блок, Письмо к матери, 18 сентября 1911 г. (Письма Александра Блока к родным, т. II, «Academia», 1932, стр. 181).
Блок видел Моисси в «Гамлете» 17 сентября 1911 года.
21. Эм. Бескин, Сандро Моисси. — «Новый зритель», 1924, 11 марта, № 9, стр. 5.
22. Эм. Бескин, Гамлет — Моисси. — «Известия», 16 марта 1924 г.
23. Узнав, что группа актеров Художественного театра во главе с Качаловым находится на пути в Копенгаген, Моисси выехал ей навстречу. В.В. Шверубович так рассказывает об этом: Моисси «ночью после спектакля (он играл Гамлета с датской труппой) выехал на границу, чтобы встретить Василия Ивановича... Ради того, чтобы поднять настроение друга и соперника (два Гамлета в одном городе в одно время), он не спал ночь после такого спектакля и перед таким спектаклем (в день нашего приезда он тоже играл), в сущности, чтобы пожать ему руку и просидеть с ним два-три часа в купе, пока поезд шел от границы до Копенгагена. Пресса и, конечно, наши «менеджеры» сделали из этого рекламный шум, но ведь Моисси этот шум нужен не был, больше того, с точки зрения «конкуренции» он был ему вреден. До конца своих дней Василий Иванович помнил об этом...» (В. Шверубович, Повесть о театре, 1963. Рукопись).
Как сообщала норвежская газета «Вердене Ганг» от 14 апреля 1922 года, Моисси поздравил Качалова «с прибытием в королевство принца Гамлета». Вместе с Качаловым приехал в Копенгаген Григорий Хмара, тоже будущий Гамлет [он намечался на роль Гамлета в Первой студии МХТ, в постановке Е.Б. Вахтангова. — Н.Ч.] и О.Л. Книппер-Чехова, играющая роль королевы, матери Гамлета... Между Моисси, Качаловым и Хмарой завязалась оживленная дискуссия. Выяснилось, что взгляды Качалова и Моисси на Гамлета вполне совпадают, между тем как Хмара трактует эту роль совершенно иначе».
«Известия» от 7 мая 1922 года сообщали: «В Копенгагене только и разговора, что о Гамлете. Несколько вечеров подряд роль датского принца играл Сканкэ, затем Моисси и Качалов». Моисси играл в «Штерне-Комедии», в театре Боти Нансена, Качалов с группой актеров МХТ гастролировал в театре «Да1мара».
24. Эм. Бескин, Моисси. «Гамлет», «Живой труп», «Привидения». — «Новый зритель», 1924, № 11, 25 марта, стр. 5.
25. «Вечер в честь Сандро Моисси при его личном участии» состоялся в Художественном театре 7 января 1925 года.
Моисси выступал в сценах из «Гамлета» и «Живого трупа».
В «Гамлете» Гертруду играла О.Л. Книппер-Чехова, Офелию — А.К. Тарасова, Полония — А.В. Жильцов, тень отца Гамлета — В.Л. Ершов.
26. Эм. Бескин, Гамлет — Моисси. — «Известия», 16 марта 1924 г.
27. Об исполнении Иосифом Кайнцем роли Гамлета см. в книге: Konrad Falke, Kainz als Hamlet. Ein Abend im Theater, Zürich und Leipzig, 1911.
28. В. Жирмунский, Театр в Берлине (Письмо из Германии). — «Северные записки», 1914, январь, стр. 192.
29. Alfred Kerr, Reinhardt. Hamlet, 1909, 19 Oktober. — В книге: «Das Mimenreich», Berlin, 1917, S. 132.
30. S. Jacobson, Max Reinhardt, 1910.
Первое представление «Гамлета» в постановке Макса Рейнгардта состоялось 17 июня 1909 года во время гастролей в Мюнхенском Художественном театре. Вторая редакция «Гамлета» была осуществлена Рейнгардтом в том же 1909 году в Берлине (16 октября). Освободившись от мешавшей ему «рельефной сцены» Г. Фукса, Рейнгардт заново перерабатывает спектакль для своего берлинского театра («Немецкий театр»), где благодаря вращающейся сцене была достигнута возможность осуществить быструю смену картин и увеличить, по сравнению с первой редакцией, число разыгрываемых эпизодов. Восстанавливается и фигура Фортинбраса, пропущенная в мюнхенской постановке. В Берлине, так же как и в Мюнхене, роль Гамлета исполнял Моисси. Наконец, спустя год, 24 ноября 1910 года, М. Рейнгардт показал вновь переработанную редакцию «Гамлета» с А. Вассерманом в главной роли.
31. А. Кугель, Трагик di grazia. Гастроли Моисси. — «Вечерняя Москва», 17 марта 1924 г.
32. Из беседы с Б. Балаш, 19 августа 1945 г.
33. Письма Александра Блока к родным (т. II, Л., «Academia», 1932, стр. 181).
34. A. Antoine, Le théâtre, II, 1932, p. 402—403 (цит. по «Хрестоматии по истории западного театра на рубеже XIX—XX веков», под ред. А.А. Гвоздева, М.—Л., 1939, стр. 289).
35. А.А. Гвоздев, Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки, М.—Л., 1939, стр. 255—256.
36. В. Жирмунский, Театр в Берлине (Письмо из Германии). — «Северные записки», 1914, январь, стр. 192.
37. См.: Julius Bab und Willi Handl, Deutsche Schauspieler. Porträts aus Berlin und Wien, Berlin, 1908, S. 123.
38. Б. Рейх, Из воспоминаний о Сандро Моисси. — Сообщения Института истории искусств, 10—11, Театр, М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 174—175.
39. См.: Ю. В. С[оболев], Моисси и Вахтангов. — «Красная нива», 1924, № 15, 13 апреля.
40. Тема переплетения рокового и эротического с достаточной убедительностью может быть прослежена на исполнении Моисси роли Ромео. Этот скорбно-меланхолический, рано созревший мальчик, «рожденный больше для страданья, чем для любви», с первого же появления как бы отмечен печатью рока, полон таинственных предчувствий. Как бы овеваемый Эриниями при убийстве Тибальта, раздавленный известием о гибели Джульетты, словно приговоренный к смерти во время поединка с графом Парисом, — таков Ромео у Моисси. И вместе с тем наряду с этой роковой обреченностью обнаженно выступает эротически-чувственный характер его страсти. Чувственная страсть звучит у Моисси все время сквозь поэтические и лирические слова роли. Ромео — Моисси, в отличие от Ромео Э. Росси или И. Кайнца, откровенно подчеркивал безумное желание обладать телом Джульетты, которую желал больше, нежели любил.
Этот терзаемый роковой страстью юноша-мальчик был временами ближе к Ведекинду и Гофмансталю, чем к мужественному облику шекспировского Ромео. Самый характер рейнгардтовской постановки, ее чувственная напряженность и утонченный эстетизм способствовали превращению трагедии любви в «чувственно-пылкий эпизод гофмансталевского ренессанса» (см.: Siegfried Jacobson, Max Reinhardt, 1910; В. Жирмунский, Театр в Берлине. — «Северные записки», 1914, январь, стр. 192; Макс-Ли, Творчество Моисси. — «Студия», 1912, № 27).
41. Беседа с Александром Моисси о московских «художественниках» была напечатана в «Prager Presse» 20 мая 1921 года. Перепечатана в газете «Воля России» 21 мая 1921 года, № 208 и в журнале, посвященном пропаганде русского сценического искусства за границей. — «Театр и жизнь» («Theater und Leben»), Берлин, 1921, № 5—6, стр. 8. Приведенное высказывание Ал. Моисси относится к спектаклю «Три сестры». Об интересе Моисси к русской драме см. Сообщения Института истории искусств, 10—11, Театр, стр. 187.
42. «Голоса Запада». — «Красная нива», 1928, 28 октября, № 44, стр. 3.
В свою очередь Станиславский чрезвычайно высоко ценил искусство Ал. Моисси и подчеркивал его близость к Художественному театру (см.: К.С. Станиславский, Собр. соч., т. 6. М., 1959, стр. 211 и рассказ о последней встрече Станиславского и Моисси в Ницце в феврале 1935 года, сообщенный итальянским драматургом Д. Кавиччиолли («Театр», 1959, № 2, стр. 175).
43. 28 марта 1924 года, по окончании выступлений Моисси в Москве, в помещении Кружка друзей культуры и искусства состоялся банкет, на котором А.И. Южин в своей речи отметил «ту великую и гениальную простоту в манере игры Моисси, которая делает его таким близким и родным русскому духу. Недаром и не случайно совпало искусство Моисси с искусством Льва Толстого, этого интимнейшего выразителя русской простой и безбрежной стихии. Моисси стал нам близок именно потому, что он так гениально понял нашего гения. Проникновение Моисси нашей стихией и делает его гастроли в Москве событием русского театра» («Зрелища». 1924, № 81, стр. 7. Разрядка моя. — Н.Ч.).
44. Сергей Юткевич, Искусство народной Албании. М., 1958, стр. 11.
45. Ответная речь Ал. Моисси на банкете, устроенном после окончания его гастролей в Москве («Банкет в честь Моисси». — «Зрелища», 1924, № 81, стр. 7).
46. Alexander Moissi, Кризис германского театра. — «Жизнь искусства». Л., 1924, № 13, стр. 3.
47. Б. Рейх, Из воспоминаний о Сандро Моисси. — Сообщения Института истории искусств, 10—11, Театр, стр. 188.
48. Август Вильгельм Иффланд (1759—1814) — знаменитый немецкий артист, один из основоположников реалистического актерского искусства нового времени. В Германии существовала традиция из поколения в поколение передавать кольцо Иффланда самому выдающемуся немецкому драматическому актеру. В 1935 году Альберт Вассерман, обладавший в то время этой реликвией, так же как и Моисси изгнанный из фашистской Германии, положил кольцо Иффланда в урну с прахом Моисси (по другой версии — вложил его в руки мертвого Моисси), как символ величия и славы.
49. «Гамлет» В. Шекспира был поставлен в МХАТ II 17 ноября 1924 года. Перевод А.И. Кронеберга. Режиссеры В.С. Смышляев, В.Н. Татаринов, А.И. Чебан, художник М.В. Либаков, композитор Н.Н. Рахманов. Роли исполняли: Гамлета — М.А. Чехов, Клавдия — А.И. Чебан, Гертруды — В.В. Соловьева, Полония — А.Э. Шахалов, Офелии — М.А. Дурасова, Лаэрта — И.Н. Берсенев, Горацио — С.В. Азанчевский, Розенкранца — И.П. Новский, Гильденстерна — В.П. Ключарев, Первого актера — А.М. Жилинский, могильщиков — М.И. Цибульский и В.А. Громов.
Художественное руководство спектакля было осуществлено М.А. Чеховым, который и являлся, в сущности, главным режиссером «Гамлета».
50. См. Протокол репетиции «Гамлета» в МХАТ II, 6 октября 1923 г. Запись В.А. Громова.
51. Там же, 10 октября 1923 г. (разрядка моя. — Н.Ч.).
52. П.А. Марко в, Первая студия. Сулержицкий — Вахтангов — Чехов. — Сборник «Московский Художественный театр второй». М., 1925, стр. 160.
53. Ф.Л. Баумер, Апокалиптика 20-го столетия. — «Вестник истории мировой культуры», 1957, март — апрель, № 2, стр. 35.
54. Б.С. Ромашов, Московский Художественный театр второй и современность (1922—1925). — Сборник «Московский Художественный те-, атр второй», стр. 38.
55. Д м. Угрюмов, «Гамлет» во 2-м МХАТ. — «Новая рампа», 1924, 25—30 ноября, № 24, стр. 5.
56. Xрис. Херсонский, «Гамлет» в молодом МХАТ. — «Известия», 19 ноября 1924 г.
57. В.С. Смышляев, В. Н Татаринов, А.И. Чебан, О постановке «Гамлета». Программа спектакля «Гамлет», изд. МХАТ II.
58. Там же.
59. Как мы помним, при объяснении режиссерского плана «Гамлета» в 1909 и 1910 годах Крэг неоднократно подчеркивал необходимость добиться сходства придворных с животными.
Вообще же толпа придворных в «Гамлете» МХАТ II, как это правильно отметил П.А. Марков, носила эклектический характер, была повторением пройденного театрального этапа, и многое в этом спектакле воспринималось как «предание, а не как живая находка» (П.А. Марков, «Гамлет» (МХАТ II). — «Правда», 19 ноября 1924 г.). Эклектический характер этого спектакля, влияние М. Рейнгардта и Г. Крэга, К.С. Станиславского и Е.Б. Вахтангова отмечал и Ю. Соболев («Гамлет» в МХАТ II. — «Красная газета», Л., 26 ноября 1924 г.). Под непосредственным впечатлением от спектакля С.В. Гиацинтова писала: «Мне в постановке не нравятся остатки модернизма — придворные, которые изображают низкие льстивые души, при этом все одинаковые, похожи на мышей, а руки держат вроде собачек. К чему этот символизм? Такой изжитой. И надо перестать так грубо показывать. Честное слово, публика умнее, чем думают режиссеры. Я хочу живой души на сцене и все тогда понятно, а все символы не от искусства на сцене. И все это умирает» (С.В. Гиацинтова, Письмо к Ф.Н. Михальскому, 19 ноября 1924 г., Музей МХАТ).
60. Запись мизансцен Крэга к «Гамлету», акт V, картина 2-я, 1910, Музей МХАТ. Архив К.С., № 1282.
«Голова у Осрика, — говорил Крэг, — похожа на хамелеона. У него выпученные глаза. Вообще голова его действительно похожа на голову смерти».
61. В спектакле МХТ роль короля исполнял Н.О. Массалитинов, который ни в какой мере не передал этот крэговский замысел — гротескного чудовищного злодея. Отзывы прессы отмечают неудачу его исполнения, однообразную статуарность и «сходство с протодиаконом» (!).
62. См. Протокол репетиции «Гамлета» в МХАТ II, 3 ноября 1923 г.
63. Там же, 10 октября 1923 г.
64. Из высказываний В.С. Смышляева на репетиции «Гамлета» в МХАТ II, 2 октября 1923 г.
65. М.А. Чехов, Путь актера, «Academia», 1928, стр. 60. «В качестве «оборванца» я с таким вдохновением бил бутафорским топором по железной двери, что со стороны можно было подумать, что именно на мне держится весь спектакль», — вспоминал М.А. Чехов.
66. Беседа Гордона Крэга с К.С. Станиславским, 16 апреля 1909 г. Запись Л.А. Сулержицкого, Музей МХАТ. Архив К.С., № 1278.
67. «Эти фигуры точно сдвигаются и душат Гамлета в этой спертой атмосфере этикета, дворца, лести и подлости...» — записал Станиславский в своем режиссерском экземпляре после объяснения Крэгом второй картины первого действия.
68. Это было, например, зафиксировано на репетиции 10 ноября 1923 года: «Когда Офелия сошла с ума, она уже не на земле, а в космосе. Офелия — это душа. Ее приход — это звучание души. И эта музыка звучит во всем ее теле и захватывает всех окружающих... Нужно, чтоб это «пела душа», чтоб была вибрация космоса, музыка сфер». На другой репетиции говорилось, что это не «сумасшествие», а «мудрость, прозрение», и в сцене «отлетания души Офелии», Офелия «видит бесконечность».
69. Мих. Чехов, Жизнь и встречи. — «Новый журнал» под редакцией М.М. Карповича и М.О. Цетлина, Нью-Йорк, 1944, кн. VII.
На репетициях М.А. Чехов предупреждал, что он очень боится «громоздко-внешнего конца, с фанфарами, прожекторами и т. д.». Но поскольку театр стремился показать не похороны Гамлета, а его победу, то возникла идея трактовать финал трагедии как «апофеоз молчания», «апофеоз света».
По замыслу МХАТ 11 в финальной картине «Гамлета» должна была быть зримо воплощена идея победы духов света над духами тьмы, чтоб зритель увидел «страшную силу зла» совершенно раздавленной. Король должен был умирать раньше, чем физическая смерть настигала его. «Черные», то есть враги Гамлета, очень развязные вначале, постепенно делаются «корявыми, деревянными и, наконец, совершенно засыхают», в то время как «белые», то есть друзья Гамлета (воины, стража), как бы расцветают и занимают всю сцену (см. Протокол репетиции «Гамлета» в МХАТ II, 19 октября 1923 г.).
70. А. Дикий, Повесть о театральной юности, стр. 332.
71. Я. Тугендхольд, Гамлет. Во 2-м МХАТ. — «Жизнь искусства», 1924, 2 декабря, № 49, стр. 5.
72. Лишь единичные, специфически подготовленные зрители могли расшифровать скрытый смысл того или иного момента постановки, но и они не были гарантированы от домыслов. Ощутив несомненную внутреннюю связь «Гамлета» в МХАТ II с идеями антропософии, О.Д. Форш восприняла замысел М.А. Чехова как «путь к посвящению», в полном соответствии с мистической философией антропософа Рудольфа Штейнера. На мой вопрос о «волевом начале», об «активности» Гамлета — Чехова, о том, почему он не выпускал шпагу из рук, О.Д. Форш высказала предположение, что шпага Гамлета имела ритуальный, магический смысл, ее острием Гамлет — Чехов как бы очерчивал себя, отгораживаясь от наваждения. Временами Чехов делал жест, «словно на нем вериги. И до последнего акта чувствовалось, что он как бы в цепях» (из беседы с О.Д. Форш, 17 февраля 1943 г.).
73. Протокол репетиции «Гамлета» в МХАТ II, 2 октября 1923 г.
На репетициях «Гамлета» М.А. Чехов впервые ввел специальные «упражнения» для актеров МХАТ II. Казалось, они были направлены только к «раскрепощению» музыкально-ритмической стихии человеческого тела, к синтезу движения и слова, к поискам «звуко-жеста», внутреннего ритма («слушание хроматических гамм телом», «руки лучи», «игра в мяч» под. музыку, бросание мяча (в образе), чтоб найти взаимоотношение с партнером, волевые импульсы, «заряды» роли и пр.).
Споря с А.Д. Диким, писавшим о том, что «упражнения» эти напоминали некие странные «радения», которым придавалось «значение таинства, сверхчувственного мистического акта» и т. д., С.Г. Бирман утверждает иное: «Мы видели в Чехове театр. Только театру учились у него. Только театру учил он нас. И никто из нас не попадался «в сети антропософии...» (см. книгу: «Путь актрисы», стр. 176).
Не приходится оспаривать искренность этого заявления. Защищая большинство талантливого коллектива МХАТ II от обвинения в мистике и «столоверчении в искусстве», С.Г. Бирман совершенно права, так как увлечение Чеховым-художником, его театральными экспериментами заслоняло от нее, так же как и от многих ее товарищей, истинный смысл этих «опытов», скрытый от непосвященных. Однако А.Д. Дикий все же имел основание говорить о том, что Чехов придавал этим «упражнениям» «значение таинства, сверхчувственного мистического акта», что на занятиях по «Гамлету» актерам «предлагалось ощутить в себе «бестелесность духа», раствориться во вселенной, слиться с космосом, с вечной гармонией» (см. «Повесть о театральной юности», стр. 325). Это подтверждает не кто иной, как сам Чехов. Он сообщает в своих мемуарах, что «упражнения», введенные им во время репетиций «Гамлета», возникли под непосредственным воздействием идей Рудольфа Штейнера, его эвритмии, и что они значили для него неизмеримо больше, чем просто искания новых приемов артистической техники. «Я стал изучать антропософических писателей, — писал Чехов. — В их сочинениях... много места отводилось вопросам композиции и ритма... Путем изучения ритмических и композиционных фигур, заключенных в Библии, теологам удалось раскрыть новые смыслы, зашифрованные в этих фигурах» («Новый журнал», 1945, кн. XI).
74. В своих поисках художник М.В. Либаков шел от витража, от образа готического собора, хотел передать ощущение грандиозности и торжественности. Изображения рыцарей на окнах в сцене «Мышеловки» должны были перекликаться с актерами-рыцарями, стоящими внизу. Режиссура стремилась достичь здесь впечатления, что король — в мышеловке, так как все ходы и выходы закрыты. Король — наверху, на возвышении. Около него, хвостом, — крысы-придворные. Свита состояла из придворных в полосатых костюмах и воинов-рыцарей, единомышленников Гамлета, которые в решающую минуту, когда ему грозит опасность, окружают его кольцом (из беседы с М.В. Либаковым, 18 апреля 1945 г.).
75. См.: Wilhelm Worringer, Formproblem der Gotik, 1911; Karl Scheffler, Der Geist der Gotik, Leipzig, 1923.
76. О. Шпенглер, Философия лирики, «Озарь», 1923, стр. 3—5.
77. Мих. Чехов, Жизнь и встречи. — «Новый журнал», 1944, кн. IX.
78. А. Дикий, Повесть о театральной юности, стр. 336.
79. С.В. Гиацинтов а, Письмо к Н.Ф. Михальскому, 22 ноября 1924 г., Музей МХАТ.
80. «Трагическая история о Гамлете, принце Датском» была поставлена в Государственном театре имени Вахтангова 19 мая 1932 г. Перевод М.Л. Лозинского, постановка и оформление Н.П. Акимова, музыка Д.Д. Шостаковича, Отв. режиссер Б.Е. Захава, режиссеры: Б.В. Щукин, П.Г. Антокольский, Р.Н. Симонов, И.М. Рапопорт. Роли исполняли: Гамлета — А.О. Горюнов, Клавдия — Р.Н. Симонов, Гертруды — А.А. Орочко, Полония — Б.В. Щукин, Офелии — В.Г. Вагрина, Лаэрта — Л.М. Шихматов, Горацио — А.Д. Козловский, Розенкранца — И.М. Рапопорт, Гильденстерна — К.Я. Миронов, актер-король—Н. П. Яновский, актер-королева — А.П. Тутышкин, актер Луциан — Д.Н. Журавлев.
81. Н.П. Акимов, О постановке «Гамлета» в театре имени Вахтангова, 1935, май. — Сборник «Наша работа над классиками», Л., Гослитиздат, 1936, стр. 126.
82. Н.П. Акимов, О Гамлете. — «Советское искусство», 3 марта 1932 г.
83. Рукописная копия А.А. Петрова бесед Крэга о «Гамлете» в МХТ, записанных Л.А. Сулержицким.
84. Н.П. Акимов, О постановке «Гамлета» в театре имени Вахтангова. — Сборник «Наша работа над классиками», стр. 126—127.
85. Там же, стр. 127.
86. Н.П. Акимов, «Гамлет». К постановке в театре имени Вахтангова. — «Советский театр», 1932, № 3, стр. 15.
Работая в МХАТ II над оформлением пьесы А. Файко «Евграф, искатель приключений», Н.П. Акимов был хорошо осведомлен о постановочном замысле «Гамлета», который вызывал у него резкое неприятие.
87. А. Бассехес, Румяна истории. Оформление «Гамлета». — «Советское искусство», 3 июня 1932 г.
88. Там же.
89. В.М. Дорошевич, Старая театральная Москва, П. — М., 192.3, стр. 131.
90. Н.П. Акимов, Доклад о постановке «Гамлета» на заседании Художественного совещания театра имени Вахтангова (1931, март). Предоставлением этого интересного документа, а также некоторых других неопубликованных материалов, относящихся к постановке «Гамлета» в театре имени Евг. Вахтангова, автор обязан Л.Д. Вендровской.
В протоколе заседания Художественного совещания от 16 марта 1931 года, где Н.П. Акимовым была дана режиссерская экспликация второго-пятого актов, отмечалось, что симулирующий сумасшествие Гамлет «бежит с корытом на голове, с поросенком на веревке, сопровождаемый мальчишками».
91. Ал. К-ов, «Быть или не быть» постановке «Гамлета» в театре имени Вахтангова? — «Советское искусство», 13 мая 1931 г.
92. В прессе спектакль «Гамлет» в театре имени Евг. Вахтангова и в особенности образ Гамлета — Горюнова вызвали в основном резко критические оценки. Это видно уже из заглавий статей: «Перечеркнутый Гамлет» (Ю. Юзовский. — «Литературная газета», 5 июня 1932 г.); «Гамлет», списанный со счета» (Эм. Бескин. — «Литературная газета», 17 июня 1932 г.); «Страшная месть» (И. Гроссман-Рощин. — «Советский театр», 6 июня 1932 г.); «Что мне Гекуба?» (М. Загорский. — «Советское искусство», 9 июня 1932 г.); «Авантюрист и гуманист» (И. Березарк. — «Рабис», 1932, № 16) и др.
93. Стенограмма заседания Художественно-политического совета театра имени Евг. Вахтангова, 16 мая 1931 г.
94. Стенограмма заседания Художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова, 19 апреля 1932 г. (обсуждение после чернового «прогона» «Гамлета», за месяц до премьеры).
95. В.В. Куза, Доклад о постановке «Гамлета» на заседании художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова, 15 июня 1932 г.
96. А. Горюнов, Между Шекспиром и Акимовым. — «Рабис», 1932, 15 июля, № 20, стр. 9.
97. Из интервью Моисси в газете «Афтенпостен» в связи с его гастролями в Дании (цит. «Известия», 7 мая 1922 г., № 100).
98. М.А. Чехов, Путь актера, «Academia», 1928, стр. 146.
99. Гёте, Годы учения Вильгельма Мейстера (Собр. соч., т. VII, М., Гослитиздат, 1935, стр. 308).
100. Стенограмма заседания Художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова, 19 марта 1931 г. (прения по докладу Н.П. Акимова о постановке «Гамлета»).
101. А. Горюнов, Между Шекспиром и Акимовым. — «Рабис», 1932, 15 июля, № 20, стр. 9.
102. Б.Е. Захава, Выступление на обсуждении постановки «Гамлета», на заседании Художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова. 20 июня 1932 г.
103. А. Горюнов, Гамлет и гамлетизм. Уроки спектакля вахтанговцев. — «Советское искусство», 8 октября 1933 г.
104. А. Горюнов, Между Шекспиром и Акимовым. — «Рабис», 1932, 15 июля, № 20, стр. 10.
105. Выступление А.О. Горюнова в прениях по докладу Л.Д. Вендровской «Гамлет» в театре имени Вахтангова», ВТО, 29 сентября 1943 г. Стенограмма.
106. А. Горюнов, Между Шекспиром и Акимовым. — «Рабис», 1932, 15 июля, № 20, стр. 10.
107. А. Горюнов, Гамлет и гамлетизм. Уроки спектакля вахтанговцев. — «Советское искусство», 8 октября 1933 г.
108. Н.П. Акимов. Шекспир, прочитанный заново. О «Гамлете» в театре имени Вахтангова. — «Вечерняя Москва», 11 мая 1932 г.
109. Интересно отметить, что Горацио, по замыслу Акимова, был не только «эпилогом», но и «прологом». Он появлялся перед золоченым занавесом и возвещал зрителю о начале спектакля словами, взятыми из последнего акта «Гамлета»: «То будет повесть кровавых, лютых, изуверных дел, сужденных кар, негаданных убийств, смертей, лукавством и нуждой творимых, и, наконец, коварных козней, павших на головы зачинщиков».
110. Так был сокращен в значительной части монолог второй сцены первого действия («О, если б вы, души моей оковы...» по переводу А.И. Кронеберга), так бесследно исчез финальный монолог второго действия, где Гамлет осуждает себя за бездейственность, так оказались пропущенными оба монолога в сцене с королевой (четвертая сцена третьего действия) и у молящегося короля (третья сцена третьего действия), наконец, в окончательной редакции спектакля была выброшена, за исключением нескольких слов, вся сцена на кладбище и сокращена четвертая сцена четвертого действия, где имеется монолог Гамлета после встречи с войсками Фортинбраса на равнине Дании.
111. По замыслу Н.П. Акимова, монолог «Быть или не быть» был вмонтирован после сцены репетиции «Убийства Гонзаго», происходящей в «винном погребе». В отличие от Шекспира, у которого представление актеров прерывается возгласом короля: «Прекратите игру!» — в спектакле театра имени Евг. Вахтангова «Убийство Гонзаго» разыгралось перед Гамлетом полностью, для чего переводчику М.Л. Лозинскому пришлось сделать интересный эксперимент — раскрыть в стихах пантомиму и самому дописать конец этой сцены.
112. Считая Гамлета «просто живым человеком, который не занят вопросом «Быть или не быть», Н.П. Акимов вынужден был передать «студенту-начетчику» Горацио все так называемые «пессимистические» части монолога, где Гамлет думает о том, что будет после смерти, и скорбит о тяжести земной жизни, оставляя на долю злополучного претендента на датский трон только оптимистически-волевые черты. Весь этот эпизод гамлетовского размышления Акимов делает звеном в развитии интриги, вставляя в подготовку к дворцовому спектаклю и публичному разоблачению короля Клавдия.
113. Выступление А.О. Горюнова на обсуждении постановочного плана «Гамлета» в театре имени Евг. Вахтангова, 22 марта 1931 г.
114. Развенчание Офелии, стремление снизить, очернить ее образ, что с такой настойчивостью и упорством проводил Акимов, видя в этом одно из принципиальных новшеств своей постановки, сближает его с Крэгом. Как и у Крэга, Офелия у Акимова «глупое, но прекрасное» существо, испорченное двором и «ужасно ничтожной», «глупой и бестолковой семьей» Полония. Подобно Крэгу, Акимов всячески стремился показать не только отсутствие любви у Гамлета к Офелии, но и невозможность этой любви. Но если у Крэга Гамлет любит не Офелию, а «воображаемую женщину», то Акимов решает иначе: в то время как Офелия принимает в своей спальне любовников (!), «отвергнутый» Гамлет не теряет времени, ищет утешения в объятиях «какой-то пышной девки», «более живой и очаровательной, чем Офелия, которая довольно подсушена придворной атмосферой».
По мысли Н.П. Акимова, в четвертом акте Офелия напивалась пьяной, пела свои песенки, непристойный смысл которых всячески подчеркивался, и погибала от того, что в пьяном виде оступилась и упала в воду.
«...Я не понимаю, как Гамлет мог такую Офелию любить, — волновался О.Н. Басов после чернового просмотра «Гамлета» в театре имени Евг. Вахтангова, когда ложность трактовки Акимовым образа Офелии вскрылась со всей очевидностью. — Она так опорочена, так опозорена, так наглядно показано, что она хуже всех, какие только могут быть женщины. Я не понимаю, зачем это нужно?»
Но это не было только «выдумкой» Акимова. Эта ошибочная в своей основе концепция, казавшаяся такой «оригинальной», была заимствована им из английской шекспироведческой литературы. Так, в книге М. Люса «Руководство к изучению произведений Шекспира» Акимов, по его собственному признанию, почерпнул трактовку Офелии, «которая делает трагедию более чем возможной, — кукла, дура и подлячка, стерва, покидающая своего возлюбленного, а затем предающая его» (М orton Luce, A Handbook to the Works of W. Shakespeare, London, 1906). Из подобных же источников исходил и Крэг, когда трактовал Офелию как «дуру» и «истеричку».
115. К. Фишер, «Гамлет» Шекспира. М., 1905, стр. 18.
В одной из своих статей Акимов рассказывает, что историю о том, как два молодых человека устроили инсценировку появления духов, он заимствовал из «Коллоквиев» Эразма Роттердамского («Colloquia», IV), где, между прочим, имеется и трюк с глиняным горшком, примененный им в «Гамлете» (участник этой инсценировки, чтоб его голос казался более «потусторонним», кричал в глиняный горшок).
116. В.В. Куза, Доклад на заседании Художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова по вопросу о постановке «Гамлета», 15 июня 1932 г.
117. В русском переводе рассказ Бельфоре об Амлете, помещенный в «Театральной библиотеке» (1880, стр. 4—19), с некоторыми поправками приведен в книге: В. Шекспир, Трагедия о Гамлете, принце датском. Перевод К.Р., т. II, Спб., 1900, стр. 2—27. Сага об Амлете в русском переводе приводится в статье Ф. Кони «Максимов в Гамлете» («Пантеон», Спб., 1853, т. XII, кн. 12).
И у Саксона Грамматика и у Бельфоре Амлет — энергичный, ловкий и хитрый человек, который, чтобы сохранить свою жизнь и отомстить за убийство отца, притворился сумасшедшим. Амлет, «усовершенствовавшись в роли безумного», «замажется всякою мерзостью, вываляется в сору и гадости и, натерев лицо грязью с улиц, по которым он бегает, как какой-нибудь полоумный», служит «забавой пажей и легкомысленных придворных, составляющих свиту его дяди-отчима». Не является ли эта характеристика, взятая нами у Бельфоре, объяснением того, что, по плану Н.П. Акимова, Гамлет в сцене сумасшествия должен был вбегать во Двор, подобно пугалу, в длинной ночной рубахе с визжащим поросенком, с кастрюлей на голове, возбуждая смех и удивление окружающих и радость мальчишек, свистящих, махающих дохлой кошкой и т. д.? Есть и другие основания утверждать несомненное влияние на Акимова древней саги и новеллы Бельфоре при постановке «Гамлета».
118. Так как, по мнению Н.П. Акимова, философские высказывания в «Гамлете» представляют собой в большинстве случаев простое переложение в стихах мыслей, заимствованных из Эразма Роттердамского (!!), то он решил заменить их непосредственно цитатами из сочинений гуманистов. В своем письме от 22 ноября 1945 года М.Л. Лозинский, автор перевода, по которому «Гамлет» шел в театре имени Евг. Вахтангова, сообщил мне список всех интерполяций из Эразма Роттердамского, сделанных им по просьбе постановщика и включенных в сценический текст «Гамлета». Кроме двух, почерпнутых из «Похвалы глупости», все они взяты из «Коллоквиев». В латинском оригинале всюду проза. Часть пассажей была переложена Лозинским в стихи. В сцене библиотеки Гамлет цитировал также Ульриха фон Гуттена: «О, столетия!..» и т. д.
119. П.А. Марков, «Гамлет» в постановке Н. Акимова. — «Советский театр», 1932, № 7—8, стр. 16.
120. M. Gorelik, The Horses of Hamlet. — «Theatre Arts Monthly», 1932, November.
121. Сообщено В.М. Ходасевич, которая вместе с А.М. Горьким видела «Гамлета» у вахтанговцев.
122. Протестуя против превращения в гротеск сцены Нестрашный — Губин в «Достигаеве», Горький писал Б.Е. Захаве в 1933 году: «Шлем, меч, поливание публики водой — это балаган, недостойный серьезного театра. Прокалывание мечом Нестрашного напоминает о Гамлете и Полонии, заставляя подозревать дурное влияние на ваш театр и на вкус ваш озорства, допущенного в спектакле «Гамлет» (цит.: «Рабочий и театр», 1936, № 15, стр. 13).
123. Цит. по книге: Б.А. Бялик, Горький в борьбе с театральной реакцией, Л.—М., 1938, стр. 153.
124. См.: В. Топорков, К.С. Станиславский на репетиции, М.—Л., 1949, стр. 98.
125. См.: «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II, М.—Л., 1951, стр. 754.
126. Первая публикация материалов В.Э. Мейерхольда о Шекспире осуществлена А.В. Февральским в статье «Мейерхольд и Шекспир» в сборнике «Вильям Шекспир. К четырехсотлетию со дня рождения» (М., «Наука», 1964). О мейерхольдовских замыслах постановки «Гамлета» говорится в моей статье в польском журнале «Dialog» (1964, № 4).
127. G. Craig, The Russian theatre to-day, — «The London Mercury», 1935, vol. XXXII, № 192.
128. Вс. Мейерхольд, Edward Gordon Craig (в его книге: «О театре», Спб., 1913, стр. 91). Статья Вс.Э. Мейерхольда о Крэге впервые была напечатана в «Журнале театра литературно-художественного общества», Спб., 1909, № 3.
129. Брошюра Г. Крэга «The Art of the Theatre», выпущенная в Лондоне в 1905 году, в том же году была издана на немецком языке, а в 1906 году — на голландском. Русское издание: Гордон Крэг, Сценическое искусство. Перевод В.П. Лачинова.
130. В переводе Вс.Э. Мейерхольда статьи Г. Крэга «О сценической обстановке» и «Несколько слов о режиссере и сценических постановках» были напечатаны в «Журнале театра литературно-художественного общества» за 1909 год (№ 3, стр. 14—16 и № 9, стр. 27—28).
131. См.: Николай Волков, Мейерхольд, т. II, «Academia», 1929, стр. 111—112.
132. См. беседу Г. Крэга с К.С. Станиславским, 16 апреля 1909 г. Запись Л.А. Сулержицкого, Музей МХАТ. Архив К.С., № 1278.
133. Музей МХАТ. Архив К.С., № 629.
134. В.Э. Мейерхольд, Упрощенные постановки. Лекция на курсах мастерства сценических постановок, 27 марта 1919 г. Стенограмма, ЦГАЛИ, ф. 998, оп. I, ед. хр. 758, л. 33.
135. К.С. Станиславский, Письмо к Вл.И. Немировичу-Данченко, 26 июня 1898 г. (Собр. соч., т. 7, стр. 133).
136. Позднее, в Студии на Бородинской, работая над отрывками из «Гамлета», Мейерхольд на репетициях сам несколько раз сыграл Полония. В показах Мейерхольда Полоний был не только буффонно-комедийным, но вырастал в какую-то зловещую, гротескную фигуру, охваченную страхом и тревогой. Как вспоминает художник А.В. Рыков, присутствовавший на этих показах, образ Полония строился двойственно: «С одной стороны он (В.Э. Мейерхольд. — Н.Ч.) изображал его важным и влиятельным царедворцем... Но вместе с тем в изображении Мейерхольда был страх. Страх — в чем-то ошибиться или в том, что он что-то сделал не так или, что кто-то ждет его ошибки. Поэтому, при внешней важности — испуг и оглядка» (А.В. Рыков, Мейерхольд и мои встречи с ним. Рукопись).
137. Вечер Студии Вс.Э. Мейерхольда состоялся 12 февраля 1915 года. Программа вечера (повторенного 2 и 29 марта 1915 г.) была составлена из трех отделений.
138. См.: А.В. Луначарский, О театре и драматургии, т. 2. М., 1958, стр. 180.
139. Вс. Мейерхольд, О театре, Спб. (1913), стр. 159.
140. М.Ф. Андреева, Выступление на Горьковской конференции ВТО, февраль 1937 г. Стенограмма (см. сборник «Мария Федоровна Андреева». М., 1961, стр. 335). В своем выступлении М.Ф. Андреева ошибочно называет Нотмана Нотгафтом.
141. Класс Вс.Э. Мейерхольда (Техника сценических движений). «Любовь к трем апельсинам». Журнал доктора Дапертутто. Л., 1915, № 4—5—6—7, стр. 210.
142. Характерно, что и Гордон Крэг в своем плане постановки «Гамлета» хотел, чтобы в сцене безумия Офелия собирала «воображаемые» цветы, что и было осуществлено в спектакле МХТ О.В. Гзовской.
143. А.В. Смирнов а, Из воспоминаний о Мейерхольде и Студии на Бородинской. Рукопись, 1960.
144. Назым Хикмет, Воспоминания о Мейерхольде. Статья, написанная на русском языке для Сборника воспоминаний о В.Э. Мейерхольде, напечатана впервые в Париже в 1959 году (см.: «Meyerhold et l'actualité», par Nazim Hikmet. — «Les Lettres françaises», № 793, du 8 au 14 octobre 1959).
145. См.: «Любовь к трем апельсинам», № 4—5—6—7, стр. 208.
Сценой безумия Офелии Мейерхольд занимался в сентябре и декабре 1915 года. Роль Офелии репетировала Бочарникова, королеву — Ильяшенко, Горацио — Нечаев, слугу просцениума — Геннинг.
146. «Любовь к трем апельсинам», № 4—5—6—7, стр. 209—210.
147. ЦГАЛИ, ф. 963, оп. I, ед. хр. 3, л. 1.
148. См.: «Около переделок (в гуще театра)» — «Вестник театра». М., 1921, № 83—84, стр. 15 (письмо В.М. Бебутова Вс.Э. Мейерхольду в связи с письмом Марины Цветаевой в редакцию журнала «Вестник театра»).
149. Валерий Бебутов, «Переделки» и «объективное искусство». — «Вестник театра», 14 декабря 1920 г., № 76—77, стр. 6.
150. М. Загорский, Впечатления. — «Вестник театра», 14 декабря 1920 г., № 76—77, стр. 15.
151. Сергей Юткевич, Доктор Дапертутто, или Сорок лет спустя, 1961. Рукопись.
152. Из беседы с М.Б. Загорским, 8 августа 1946 г.
153. О современном театре (из речи В.Э. Мейерхольда). — «Вестник театра», 1920, 9—17 октября, № 70, стр. 12.
154. В.Э. Мейерхольд. Доклад «Учитель Бубус» и проблемы спектакля на музыке». Стенограмма, ЦГАЛИ, ф. 998, оп. I, ед. хр. 345, л. 21.
155. Из беседы с Г.Л. Рошалем, 18 марта 1961 г. В.М. Бебутов сообщил мне, что, насколько он помнит, Фортинбрас и его войско в финале «Гамлета» должны были в Театре РСФСР I появляться «на кораблях».
Однажды, в середине 30-х годов, Мейерхольд высказал интересное замечание о внутреннем единстве образов Гамлета и Фортинбраса: «Говорят, что Гамлет — слабый, Фортинбрас — сильный, что это разные психологические типы. Ерунда. Фортинбрас — тот же Гамлет, тот же. Это — Гамлет другого возраста. В образе Фортинбраса Шекспир показывает, каким был бы Гамлет через 8—10 лет!» (из беседы с А.К. Гладковым, 25 июля 1945 г.).
156. В Третьей студии МХАТ роль Гамлета должен был играть Ю.А. Завадский, короля — Н.О. Тураев, Полония — О.Н. Басов, могильщика — Б.В. Щукин. Художником на постановку «Гамлета» был приглашен Н.И. Альтман. В Первой студии МХАТ на роль Гамлета намечался Г.М. Хмара.
157. См. Сборник статей «Мастерство режиссера». М., 1956, стр. 259.
158. В.Э. Мейерхольд, В.М. Бебутов, И.А. Аксенов, Амплуа актера, М., изд. ГВЫРМ, 1922, стр. 8—9.
Из таблиц, приведенных в брошюре, можно установить, как в то время В.Э. Мейерхольд представлял себе распределение ролей в «Гамлете» по амплуа: король — злодей и интриган («допустимо косоглазие»), королева — куртизанка, Полоний — опекун (Панталоне), Офелия — первая влюбленная, Лаэрт — второй герой, Горацио — друг (наперсник). Розенкранц и Гильденстерн — второй злодей и интриган, Осрик — фат, Тень отца Гамлета — вестник.
159. В.Э. Мейерхольд, Доклад «Учитель Бубус» и проблемы спектакля на музыке». Стенограмма. ЦГАЛИ, ф. 998, оп. I, ед. хр. 345, л. 21.
160. В источнике, использованном В.Э. Мейерхольдом, в «Трагических историях» Бельфоре сказано что, «будучи хитрым и прозорливым», Амлет, войдя в спальню королевы, сразу же догадался, что «тут какой-нибудь обман и ловушка, и, чтоб никто не слышал его разговоров с матерью, продолжал безумствовать и дурить;он начал петь петухом, размахивая руками, наподобие взмахов петушиных крыльев, вскочил на одеяло и почувствовал что-то спрятанное под ним, вонзил в него весь свой меч, потом, вытащив полумертвого предателя, добил его, изрубив в куски; затем сварил его труп и бросил в сточную трубу, по которой стекали нечистоты для корма свиней». Сходная сцена имеется и у Саксона Грамматика в его саге об Амлете.
Отдельные подробности, которые Мейерхольд находил у Бельфоре и Саксона Грамматика, захватывали его воображение. Так было, например, со сценой (отсутствующей у Шекспира), где Гамлет тащит труп Полония по закоулкам дворца, чтоб выбросить его в «какую-нибудь самую мерзкую яму». Мейерхольд намеревался включить этот эпизод в свою постановку и в разные годы неоднократно говорил об этом. Вместе с тем Мейерхольд в сцене у королевы, довольно точно следуя за Бельфоре, намеренно опускал те детали, которые противоречат Шекспиру и невозможны для передачи на сцене.
161. ЦГАЛИ, ф. 998, оп. I, ед. хр. 1346, л. 21 об.
Сходное упоминание («Я уже понавыдумал разные штуки для «Гамлета» и вообще только и мечтаю об этой работе») имеется и в другом письме В.В. Дмитриева к В.Э. Мейерхольду от 10 апреля 1925 года (Там же, ед. хр. 1346, л. 3).
В своем докладе 5 мая 1925 года коллективу ГосТИМа В.Э. Мейерхольд, подводя итоги театрального сезона и намечая ближайший репертуар, говорил: «Из классических пьес мы намечаем к постановке «Гамлета», «Горе от ума» и «Ревизора» (цит. по записи А.В. Февральского, хранящейся в его личном архиве).
162. Из бесед с В.В. Дмитриевым, 10—11 июля 1945 г.
163. В.Э. Мейерхольд, Доклад «Учитель Бубус» и проблемы спектакля на музыке, 1 января 1925 г. Стенограмма. ЦГАЛИ, ф. 998, оп. I, ед. хр. 345, л. 35.
164. В.Э. Мейерхольд, Лекция на актерском факультете ГЭКТЕМАСа 10 января 1929 г. Стенограмма.
165. См.: В.Э. Мейерхольд, В.М. Бебутов, И.А. Аксенов, Амплуа актера, стр. 14; Вс. Мейерхольд, О театре, Спб. (1913), стр. 169.
166. В.Э. Мейерхольд, Доклад «Искусство режиссера» в Большом зале Ленинградской филармонии, 14 ноября 1927 г. Стенограмма, ЦГАЛИ, ф. 998. оп. I. ед. хр. 646, л. 12.
167. Из архива А.К. Гладкова.
Упоминание В.Э. Мейерхольдом «колокольни» не является случайной обмолвкой. Это был один из многочисленных вариантов, придуманных им для сцены с тенью. Гамлет сидит в задумчивости, у колокольни. Бьет колокол. Гамлета окликают. Перед ним — отец, голос которого звучит в той же тональности, как и колокол. Светлеет, туман рассеивается. Призрак исчезает. Перед нами опять колокольня, опять звон, опять Гамлет. И колокол звенит в той же тональности, как голос покойного короля (из беседы с А.К. Гладковым, 25 июля 1945 г.).
168. В 30-х годах Мейерхольд предостерегал театры против переделок классики («бойтесь переделок как огня»), против искажения основной мысли автора. Он считал, что в «Лесе» и в некоторых других своих работах он не только не «отрывался от задач автора», как это сделал в «Гамлете» Акимов, где «от Шекспира уже ничего не осталось», а, напротив, всячески стремился развить мотивы, намеченные в самой пьесе, то есть заострять и выявлять социально классовое поведение действующих лиц, причем делая это так, чтобы «основные тенденции автора все оставались на местах».
Показательно, что именно после акимовского «Гамлета» Мейерхольд стал призывать режиссеров «ставить классиков, ничего в них не переделывая». В мае 1934 года он говорил: «...я думаю поставить «Гамлета» — не пропустив ни одной сцены; если надо будет играть, буду играть с шести часов вечера до двух часов ночи» (ЦГАЛИ, ф. 963, оп. I, ед. хр. 46). Мейерхольд утверждал, что эффект нового восприятия классики, в том числе и «Гамлета», может быть достигнут путем новизны трактовки произведения, данной режиссером, и «парадоксальным распределением ролей».
169. Micaelo, Мейерхольд о Чехове. — «Экран», 28 ноября 1921 г., № 10, стр. 12.
170. П. Марков, Торжество победителя. — «Театральное обозрение», 1921, 29 ноября — 1 декабря, № 4, стр. 6.
171. Сборник статей «Гоголь и Мейерхольд», М., «Никитинские субботники», 1927, стр. 36.
172. Из беседы с С.Д. Спасским, 28 августа 1947 г.
173. «Список благодеяний» Ю.К. Олеши был поставлен в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда 4 июня 1931 года Автор спектакля — В.Э. Мейерхольд (проект оформления и постановка). Режиссеры: П.В. Цетнерович, С.В. Козиков. Роли исполняли: Гончаровой — З.Н. Райх, Федотова — Н.И. Боголюбов, Татарова — С.А. Мартинсон, Маржерета — М.М. Штраух, Улялюма — М.А. Чикул, С.А. Мартинсон.
Артистка Елена Гончарова появлялась в костюме Гамлета в «Прологе», где происходит диспут в театре после представления «Гамлета», и Гончарова по желанию публики исполняет сцену с флейтой в эпизоде «Флейта», происходящем в Париже, за кулисами мюзик-холла, и в следующей сцене, где Гончарова — Гамлет произносит монолог о родине и встречается с безработным, похожим на Чарли Чаплина.
174. Мих. Чехов, Жизнь и встречи. — «Новый журнал», 1944, кн. IX.
175. «Новый журнал», 1945, кн. X.
176. В Париже, куда М.А. Чехов приехал с намерением показать своего «Гамлета», он также не смог осуществить эту постановку. Неумение вести коммерческую сторону дела, равнодушие буржуазной публики, отсутствие материальной поддержки — все это привело к тому, что Чехова вскоре постиг материальный крах. Лишь в Риге, куда он был приглашен режиссером и актером, он смог наконец поставить «Гамлета» и сам играл центральную роль. Как свидетельствует М.А. Чехов, хотя «постановка эта не могла быть так детально проработана в смысле исполнения и стиля, как московская, все же и в ней удалось сохранить основную атмосферу спектакля». Эту же шекспировскую трагедию Чехов поставил и в литовском театре, в Каунасе, с бывш. актером МХАТ II А.М. Жилинским в роли Гамлета.
177. Из беседы с В.Н. Плучеком, 20 ноября 1945 г.
Мейерхольд ссылается здесь на поэта Юргиса Балтрушайтиса (1873—1944), который с 1921 по 1939 год был полномочным представителем Литовской буржуазной республики в СССР.
178. См.: Александр Гладков, Из воспоминаний о Мейерхольде. — «Москва театральная». М., 1960, стр. 365.
179. Из беседы с Н.И. Боголюбовым, 8 августа 1946 г.
180. В с. Мейерхольд, «Вступление», 6 апреля 1933 г. ЦГАЛИ, ф. 963, оп. I, ед. хр. 757.
181. Вс. Мейерхольд, Доклад «Мейерхольд против мейерхольдовщины» в Ленинградском лектории, 14 марта 1936 г. Стенограмма, ЦГАЛИ, ф. 998. оп. I, ед. хр. 695.
182. Отношение к Чарли Чаплину и его искусству Мейерхольд выразил в докладе «Чаплин и чаплинизм», прочитанном им в Ленинградском доме кино 13 июня 1936 года (см. публикацию Л.В. Февральского в журнале «Искусство кино», 1962, № 6, стр. 113—122).
183. В с. Мейерхольд, Чаплин и чаплинизм (цит. по стенограмме доклада Мейерхольда, хранящейся у А.В. Февральского, так как эта часть доклада не включена в публикацию в журнале «Искусство кино», 1962, № 6).
184. Следует отметить, что мысль о том, чтобы в его постановке роль Гамлета исполнялась женщиной, приходила Мейерхольду и раньше. По свидетельству А.Л. Грипича, во времена Студии на Бородинской Мейерхольд думал о Гамлете — Н. Коваленской, особенно после того, как она блестяще сыграла мужскую роль — инфанта Фернандо в «Стойком принце» Кальдерона, поставленном Мейерхольдом в Александрийском театре 23 апреля 1915 года.
185. Из беседы с Н.И. Боголюбовым, 8 августа 1946 г.
186. Александр Гладков, Воспоминания, заметки, записи о Вс.Э. Мейерхольде. — Сб. «Тарусские страницы», Калуга, 1961, стр. 305.
187. Из беседы с Л.Н. Обориным, 13 августа 1946 г.
188. Вс. Мейерхольд, Малый театр и С. Моисси. — «Правда», 18 марта 1924 г.
189. Из беседы с Н.И. Боголюбовым, 8 августа 1946 г.
190. Из беседы с А.К. Гладковым, 25 июля 1945 г.
191. Как сообщил мне А.К. Гладков, Мейерхольд, для того чтобы показать Гамлета юным, готов был даже сделать комбинированную редакцию текста трагедии, внеся в так называемый «канонический текст» поправки по первому кварто.
192. Вс. Мейерхольд, Слово о Маяковском. — «Советское искусство», 11 апреля 1936 г. (обработанная стенограмма доклада, прочитанного 26 февраля 1933 г.).
193. Различие приемов артистической техники В.И. Качалова и В.Э. Мейерхольда, их творческих методов создания образа со всей наглядностью обнаруживается в фильме «Белый орел», поставленном режиссером Я.А. Протазановым в 1928 году (по мотивам рассказа Л. Андреева «Губернатор»). В отличие от Качалова, который создал в этом фильме яркий и убеждающий образ губернатора, с присущим ему как актеру мастерством психологического реализма, Мейерхольд играл роль сенатора в иной, иронически-гротесковой, графической манере, используя биомеханические приемы. «Встреча Качалова и Мейерхольда на экране от этого получает большую художественную принципиальность, — писала «Правда». — Оба артиста свойственными им приемами творчества достигают отличных и значительных результатов» (Н. Волков, Качалов и Мейерхольд на экране. — «Правда», 18 октября 1928 г.).
194. Всеволод Мейерхольд, Верность ума и чувства. — «Советское искусство», 11 октября 1935 г. (написано в связи с шестидесятилетием со дня рождения и сорокалетием артистической деятельности В.И. Качалова).
195. Разрабатывая план постановки «Гамлета», Мейерхольд строго учитывал особенности и возможности своего нового театрального помещения. В моем дневнике сохранилась запись беседы с В.Н. Плучеком о том, как мыслилась эта постановка. Мейерхольд намеревался использовать приемы смежных искусств, например, киномонтаж, крупный план (посредством света «выделяя» фигуру или лицо актера, «приближая» его к зрителю). Ему хотелось, чтобы вначале были даны как бы «портреты главных персонажей», то есть «крупным планом» были показаны актеры, играющие основные образы трагедии. Сперва мог появиться Призрак отца Гамлета в серебряном одеянии. Сразу же за ним — «портрет» Гамлета-сына. Он должен был быть очень похож на старого Гамлета и по внешности, и по костюму, и вызвать у зрителя мысль, что Гамлет — продолжатель дела своего отца.
Намечалось, что спектакль начнется с чтения фрагментов монолога «Быть или не быть». Это был как бы эпиграф ко всему последующему, В дальнейшем по ходу действия этот монолог должен был идти как бы повтором, но на этот раз уже полностью, без всяких сокращений.
Обдумывая в 30-х годах план постановки «Гамлета», Мейерхольд учитывал, что зритель на игровую площадку будет смотреть сверху Отсюда возникла мысль сделать зеркальный пол, чтобы фигура Гамлета отражалась на его поверхности. Зеркальная поверхность могла, в определенный момент, создать ощущение водоема. Мейерхольду представлялась такая сцена — Гамлет стоит у самой воды, одетый в серебряный костюм. Он задумался, погружен в свои мысли об отце. И вдруг... в воде видит свое отражение, похожее на отца. Так реальным приемом Мейерхольд подготавливал Фантастическое — появление Призрака. В.Н. Плучеку кажется, что здесь Мейерхольд, по-видимому, хотел осуществить материализацию метафоры: Призрак мог возникнуть из воды, из отражения, и опять уйти в воду (из беседы с В.Н. Плучеком, 20 ноября 1945 г.).
196. См.: И. Эренбург, Воспоминания о Мейерхольде. — «Театр», 1961, № 2, стр. 112.
197. Вс. Мейерхольд, Пушкин и Чайковский (отрывок из стенограммы доклада в Московском клубе мастеров искусств, 17 ноября 1934 г.). Цит.: Сборник статей и материалов к постановке оперы «Пиковая дама» Вс.Э. Мейерхольдом в Гос. академическом Малом оперном театре. Л., 1935, стр. 6.
Показательно, что именно о сцене встречи Гамлета с Призраком отца Мейерхольд рассказывал А.К. Гладкову в июне 1938 года, предполагая включить ее в задуманную им книгу о «Гамлете». Об этом же в 1938 году говорил он и художнику В.В. Дмитриеву.
Сообщая разным лицам о том, как ему представляется сцена с Призраком, Мейерхольд варьировал свой рассказ. По свидетельству М.Ф. Астангова, Мейерхольд (в последний год существования своего театра) так рисовал ему эту сцену: океан, шторм, волны бьются о скалы. По каменным ступеням взбирается маленький старичок, дрожит от холода. Гамлет бросается к нему, укутывает его плащом, падает перед ним на колени. На вопрос Астангова: «Почему Призрак должен быть маленьким?» — Мейерхольд ответил: «Лев Николаевич Толстой был маленький. Когда мы с Сулержицким были у него в Ясной Поляне, он появился так...» И Мейерхольд очень выразительно показал, как из двери, откуда должен был появиться «великий Толстой», вдруг выглянул какой-то маленький старикашка, взглянул, прожег их взглядом и юркнул в соседнюю дверь (из беседы с М.Ф. Астанговым, 12 сентября 1963 г.).
198. См. стенограмму доклада В.В. Кузы о постановке «Гамлета» Н.П. Акимовым на заседании Художественного совещания театра имени Евг. Вахтангова, 15 июня 1932 г.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |