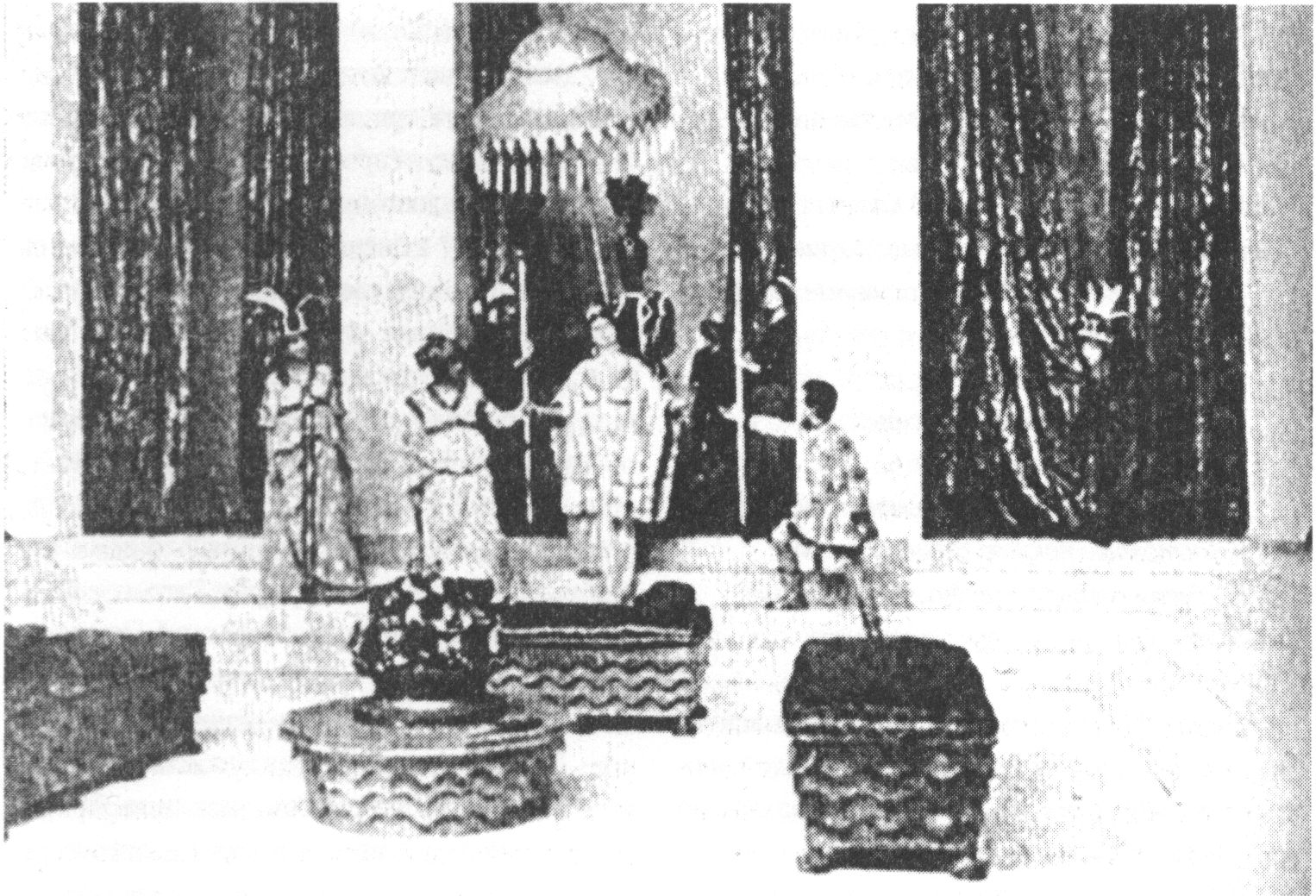Разделы
Счетчики
«Зимняя сказка»
Пьеса была впервые напечатана в Первом фолио. В дневнике врача Саймона Формана указано, что он видел ее постановку в «Глобусе» 15 мая 1611 года. Правда, этот документ был опубликован известным фальсификатором Джоном Пэйном Кольером. Но есть другое, гораздо более веское основание датировать пьесу первой половиной 1611 года (если даже дневник подлинный, в нем не указывается, что Форман был на премьере или на одном из первых спектаклей). Танец сатиров перед королем Поликсеном в четвертом акте представляет собой явный отклик на другой танец сатиров — в «Маске Оберона» Бена Джонсона. «Маска» была показана при дворе 1 января 1611 года.
Источником «Зимней сказки» послужил роман Роберта Грина «Пандосто, или Торжество Времени» (1588). Он был переиздан в 1607 году под названием «Дораст и Фавния». Пандосто — это король Сицилии Леонт у Шекспира, Дораст и Фавния — Флоризель и Утрата. Образы Автолика, Паулины и Антигона придуманы Шекспиром.
В пьесе, как обычно, немало анахронизмов, есть и ошибки, но в данном случае они заимствованы из книги Грина. Много (с иронией мосек, лающих на слона) говорилось о том, что Богемия в «Зимней сказке» выходит к морю.
Но об этом писал Грин, а ожидать незнания географии от оксфордского магистра искусств (говоря нашими терминами, гуманитарных наук) довольно странно. В XIII веке территория Богемии действительно доходила до Адриатического моря. Неудивительно и то, что дельфийский оракул расположен на острове; он в самом деле находился на острове возле Дельф, к которым примыкал небольшой залив. Упоминание об отце Гермионы, русском императоре, можно посчитать вполне естественным современным анахронизмом (в конце концов, упоминается и пуританин, поющий псалмы под волынку). Однако первым русским императором стал в 1721 году Петр I, да и первым царем — только Иван IV Грозный в 1547 году (до него Русью правили великие князья). Но территория Руси (даже в те времена) производила на европейцев такое сильное впечатление, что правителей огромной страны принято было называть императорами. Судя по всему, это делалось метафорически: так, в драме Лопе де Вега о Лжедмитрии «Великий князь Московский, преследуемый император» слово «император» соединяется с уже устаревшим титулом.
Конечно, имя Гермиона совсем не подходит русской царевне, но такое вполне типично для драматургии шекспировских времен (вспомним, например, имена в «Гамлете»). Соединение древних Дельф с христианскими обрядами — тоже типичный прием.
Сюжет пьесы. Леонта навестил его друг, король Богемии Поликсен. Королева Сицилии Гермиона ведет себя с ним так любезно, что это вызывает у Леонта ревность. Уже в четвертый раз Шекспир обращается к этой теме. Но по сравнению с «Много шума из ничего», «Отелло» и «Цимбелином» в «Зимней сказке» есть существенное изменение. Здесь отсутствует клеветник, и к своей ревности Леонт приходит сам.
Александр Аникст в своих комментариях к «Зимней сказке» просто противоречит самому себе, размышляя о ревности Леонта. То он называет неожиданно вспыхнувшую ревность Леонта невероятной (хотя она как раз вполне вероятна, имела и имеет массу аналогий в реальной жизни), то — чуть позже — обнаруживает в суде короля над Гермионой «великий образец шекспировского реализма», «кусок страшной жизненной правды», «ветер истории и реальной жизни, ворвавшийся в пьесу», проводит параллели с английским аналогом Синей Бороды Генрихом VIII (кстати, в пьесе «Генрих VIII» Шекспир этой темы не коснулся). Все действительно так, однако основа была положена в «невероятной», а на самом деле очень даже типичной ревности Леонта.
Дело тут в личном характере: другой бы воспринял любезность жены нормально, Леонта же смущает то, что Гермиона ведет себя «слишком пылко», а «от пылкой дружбы шаг до пылкой страсти» (здесь и далее перевод В. Левика). Леонт по натуре своей склонен к ревности и при этом он не Отелло; ему не нужно никакого Яго, чтобы эту ревность в себе возбудить. Он сам в состоянии управлять своими чувствами. И это психологическое несоответствие характеров мужа и жены (ведь для Гермионы ее поведение вполне нормально, естественно и непорочно) называют применительно к Леонту плодом «больного воображения и примитивного представления о человеческих отношениях» (В. Комарова).
При этом и Комарова, и многие другие признают, что в романе Грина ревность героя достаточно мотивирована. Неужели это основано только на том, что, имея в своем распоряжении более масштабный литературный жанр, Грин сделал свое описание подробней (а точнее, длинней)? Кажется, только Пастернак обратил внимание, что в «Отелло» «явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться между нами с излишней простотой и слишком далеко зашедшими обстоятельствами» (ошибочно осудив это). Это было еще до пресловутого платка, который, в общем, лишь слегка усилил клевету Яго. Браслет Имогены в «Цимбелине» оказался гораздо более веским аргументом (кстати, первое имя героя этой пьесы Постума — Леонат — поразительно похоже на имя Леонта). Еще более веский аргумент — это конкретный разговор, и не приходится сомневаться, что мальчик-актер, руководимый режиссером Шекспиром, инсценирующим и обрабатывающим роман своего бывшего врага, действительно говорил «слишком пылко». Интонации, как давно и верно установлено психологами, значат больше, чем произносимые слова.
Шекспир понимал, как быстро возникает ревность, а в «Зимней сказке» решил устроить завершение темы.
Леонта, который все больше накручивает себя, уже ни в чем не убедишь, и он говорит своему советнику Камилло:
Иль поклянись трусливо господину,
Что у тебя нет мозга, глаз, ушей,
Иль сукой назови мою жену,
Распутницей, разнузданною девкой,
Которая до свадьбы отдается.
Камилло активно защищает Гермиону, но, когда Леонт предлагает ему отравить короля Богемии, соглашается, выражая надежду, что его государь вернет жене свою любовь — хотя бы «ради сына». Леонт и сам не хочет «предать позор огласке».
На самом деле согласие Камилло было, конечно, обманом. Он находится в неразрешимой, казалось бы, ситуации:
Свершу злодейство — отомстит мне совесть,
Не совершу — мне отомстит король.
Единственный выход — бежать. Камилло рассказывает все Поликсену и уплывает из Сицилии вместе с ним.
Узнав об этом, Леонт говорит:
Как был я прав! Я видел их насквозь!
О, лучше бы не понимать, не видеть,
Я проклинаю правоту мою!
Когда паук утонет в винной чаше,
Ее любой осушит, не поморщась,
Но лишь увидит гадину на дне —
Вмиг тошнота, и судорога в горле,
И вырвет все, что с наслажденьем пил, —
Вот так лежал паук в моем бокале.
Во времена Шекспира паук считался ядовитым насекомым.
Явную символику, связанную с названием пьесы, содержит происходивший незадолго до этого разговор Гермионы и ее маленького сына Мамиллия. Гермиона просит сына рассказать ей сказку. Мамиллий спрашивает: «Веселую иль грустную?» «Любую», — отвечает Гермиона, но тут же поправляется: «Нет, самую веселую!» «Зачем? — возражает Мамиллий. — Зиме подходит грустная».
Грустная сказка уже началась, и она продолжается. Велев увести сына, Леонт называет жену прелюбодейкой и обвиняет в государственной измене, где ее соучастником был лицемер и сводник Камилло. Гермиона пытается доказать мужу, что он ошибся, но тот приказывает страже забрать ее.
Антигон и еще один придворный защищают Гермиону, однако Леонт намерен осуществить суд над ней. В тюрьме Гермиона родила дочь, которую приносит королю жена Антигона Паулина. Леонт считает ребенка Поликсеновым отродьем и гонит Паулину прочь вместе с малышкой. Поскольку Паулина не желает уходить и откровенно высказывает свои мысли («Меж нас король — единственный изменник..»), Леонт обещает сжечь ее, но Паулина отвечает:
Я не боюсь. Не тот, кого сжигают,
Тот, кто сжигает, — лютый еретик.
Тираном вас я называть не смею,
Но ваши обвиненья без улик,
Жестокость в обращенье с королевой
Позорят вас и делают тираном
В глазах людей.
В конце концов она все-таки уходит, оставляя ребенка. Леонт обвиняет Антигона в том, что он подговорил свою жену. За это он должен сжечь девочку, которую Леонт вначале собирался уничтожить своей рукой. Придворный, уже выступавший в защиту Гермионы, от имени всех просит короля отменить этот свирепый и бесчеловечный приказ, который принесет ужасные плоды. Леонт замечает: «Уж лучше сжечь ее сейчас, чем проклинать потом», но тем не менее соглашается: «Пускай живет. Ей все равно не выжить». Поскольку Антигон и Паулина так усердно пытались спасти ребенка, король спрашивает: «...что ж для этой цели готов ты сделать?» Антигон отвечает:
Все, что будет в силах!
Все, что позволит честь, мой государь!
Леонт приказывает клясться мечом, и Антигон делает это. Леонт велит ему
Без промедлений отвезти ублюдка
В пустынный край, далекий от пределов
Державы нашей. Там свой груз ты бросишь
На произвол природы и судьбы.
Пусть ей, по воле случая рожденной,
Предпишет случай: умереть иль жить.
Начинается суд над Гермионой. Услышав предъявленные ей обвинения (о том, например, что они с Камилло хотели убить короля), она с негодованием отвергает их и убедительно защищается. Она не боится смерти:
Напрасно вы грозите, государь.
Вы смертью запугать меня хотите,
Но смерть — освобождение от жизни,
А жизнь мученьем стала для меня.
Уже вернулись двое вельмож, ездивших к дельфийскому оракулу, и Гермиона просит огласить ответ оракула. Она хочет, чтобы ее судьею был Аполлон. Судья читает ответ: «Гермиона — целомудренна (перевод формально правильный, однако слово chaste можно перевести и как «непорочна», что гораздо более уместно, ведь целомудренной можно назвать невинную девушку, а не замужнюю женщину. — В.Н.) Поликсен — безвинен. Леонт — ревнивый тиран. Его невинное дитя — законно. У короля не будет наследника, покуда не найдется утраченное». «А верно ли прочел ты?» — спрашивает Леонт. «Да, государь, все точно, слово в слово», — отвечает судья. Леонт заявляет:
От слова и до слова — это ложь.
Суд не окончен!2
Приходит слуга, который сообщает о смерти Мамиллия. Потрясенный смертью сына Леонт считает, что Аполлон мстит ему за богохульство (впрочем, печальное событие все равно вытекало из фразы оракула: «У короля не будет наследника...»). Гермиона же падает в обморок.
С глаз Леонта словно падает пелена («О, зачем я верил слепому подозренью!»). Он умоляет сделать все, чтобы спасти Гермиону, которую уносят Паулина и другие дамы. Леонт же просит Аполлона простить его за богохульство, возвращает дружбу Поликсену, снова называет Гермиону «возлюбленной женой». Особенно много он говорит о Камилло, чей поступок теперь одобряет и на коленях просит у него прощения:
Каким алмазом честь его сияет
Сквозь ржавчину моих деяний темных!
В сравненье с ним я черен!
Здесь очевидна параллель с Отелло, который говорил известные слова «черен я» (перевод М. Лозинского). Но у Отелло упоминание о черноте, во-первых, носило буквальный характер, а, во-вторых, имело совершенно другой смысл. К тому же, в отличие от Отелло, Леонту удалось вовремя остановиться.
Однако возвращается Паулина и просто набрасывается на Леонта:
Какие пытки ты мне уготовишь,
Калесованье, дыбу иль костер?
Или велишь сварить в кипящем масле?
Что ты измыслишь, если каждым словом
Я самых страшных пыток заслужу?
Эти слова называют дерзким обличением тирании (тем более, они начинались с обращения: «Ты, тиран!»), однако тирания Леонта была лишь последствием его ревности и уже прошла. Но Паулина перечисляет его злодеяния — подозрение в адрес друга, подстрекание Камилло к убийству, то, что он бросил свою дочь «воронам в добычу», «хоть этого и дьявол бы не сделал». Паулина обвиняет Леонта и в том, что «принц убит твоею злобой». По ее словам, сердце Мамиллия разбилось, «когда отец бесчестью предал мать». Это лишь версия Паулины (хотя версия, конечно, правдоподобная): на самом деле причина смерти мальчика так и осталась невыясненной. Тем не менее все названные Паулиной преступления Леонта меркнут перед новым: Гермиона «скончалась — а убийца не наказан!». Паулина замечает, что король раскаивается, но заявляет, что десять тысяч лет стоя «под бурями, на ледяном утесе», терзаясь «бессоницей и голодом», он не вымолит прощения у богов.
Леонт отвечает достойно:
Так! Продолжай! Язви! Все будет мало.
Мне мало слов, хотя бы все вы, все
Горчайшее в лицо мне говорили.
Придворный, который с самого начала вступался за Гермиону, восклицает: «На государе нет лица, довольно!» Он признает, что Леонт совершил великий грех, но Паулина своей дерзкой речью перешла все границы. Паулина соглашается; она сама начинает утешать короля и просить у того прощения.
Леонт произносит:
Ты хорошо и честно говорила.
Мне правда легче жалости твоей.
В романе Грина героиня действительно умирает; для читателей и зрителей, которые впервые знакомятся с «Зимней сказкой», смерть Гермионы остается бесспорной вплоть до финала (в следующей сцене это только усиливается рассказом Антигона о том, как королева явилась ему ночью в «белом одеянии» и он «понял: Гермиона умерла»). Если бы Шекспир, дополнив пьесу какой-либо побочной линией, завершил ее именно так, «Зимнюю сказку», безусловно, следовало считать трагедией. Он применил характерный для него прием «двойной развязки» и применил с потрясающей силой. Ситуацию ничуть не улучшает финальная сцена. Антигон услышал ночью от Гермионы, что ее дочь следует отвезти в Богемию, где «немало диких мест». Он решает, что девочка действительно — «отпрыск Поликсена», и сам Аполлон хочет, чтобы она жила и умерла «на земле отца». Однако на Антигона нападает медведь, и он убегает, преследуемый свирепым животным. Ребенка находит пастух и решает взять с собой, «пожалеть бедняжку». Впоследствии он радостно отыщет в пеленках золото. Подошедший сын пастуха рассказывает, что вместе со всеми моряками утонула барка, на которой должен был вернуться в Сицилию Антигон. Он также описывает (причем довольно натуралистически), как Антигона терзает медведь. Неслучайно Гермиона говорила Антигону в его видении:
Ты невиновен, знаю, но злодейству
Покорно ты служил, и в наказанье
Ты не увидишь больше Паулины.
Между третьим и четвертым актом проходит шестнадцать лет. Поразительно, но за это Шекспира обвиняли в крайнем нарушении драматической структуры. Является ли нарушением драматической структуры то, что в «Чайке» Чехова между четвертым и пятым действием проходит два года? Конечно, два года это не шестнадцать, но Шекспира обвиняют именно в отсутствии временной последовательности, каковой у Чехова тоже нет. Что уж тут говорить об английском драматурге XX века Джоне Пристли, который был способен вернуть действие к началу и изменить сюжет («Опасный поворот»), перенести действие в будущее, а затем вернуть обратно в прошлое («Время и семья Конвей»)? Или художникам Нового времени это позволительно? Надо признать, что классицизм вовсе не прекратил существования в начале XIX века. Исчезла (и то лишь отчасти) его форма, а суть продолжала сохраняться. Она проявилась, например, в пьесах Александра Островского. Даже в лучшей из поздних его пьес, «Бесприданнице», действие длится один день, а начинается пьеса с разговора двух купцов, которые с целью оповестить зрителя и читателя рассказывают друг другу о том, что оба прекрасно знают. Когда Эльдар Рязанов в своей блестящей экранизации посвятил всю первую часть тем событиям, которые предшествовали трагическому дню, он подвергся просто яростным нападкам критиков. Достойным продолжателем классицизма является реализм (к нему, подтверждая это, относят и Островского), который в своей маргинальной форме требует изображения только тех событий, что имели место в реальной жизни, — хотя это лишь одна из многочисленных возможностей писателя, кстати, всегда имеющего право внести любые изменения. В более здоровой форме писателю предлагается брать реальные события за основу, делая даже измененные факты предельно похожими на привычную жизнь. К этому и восходит заявление Аникста о «Зимней сказке», что пьеса «не выдерживает проверки критериями реалистического искусства». Аникст, видимо, забыл, что реализм возник в 30-е годы XIX века (суждения о некоем ренессансном реализме антинаучны до крайности); если же говорить о реализме не как о направлении, а как о понятии, то его в «Зимней сказке» немало.
На Шекспира, безусловно, оказало влияние его участие в написании «Перикла», где имелись и примерно такой же большой промежуток между третьим и четвертым актом, и (иное по характеру) нахождение потерянной дочери, и воссоединение с якобы умершей женой. Однако он вряд ли серьезно относился к своему улучшению примитивной пьесы Уилкинса. «Зимняя сказка» — совсем другое дело, и Шекспир открыл четвертый акт монологом Времени, предстающем в роли хора.
Если говорить о печатных публикациях, то впервые образ Времени появился в поэме «Насилие над Лукрецией», однако, вероятно, еще раньше этот образ был разработан в сонетах. Там Время было символом быстрого уничтожения красоты и жизни, что вполне естественно для поэта, которому около тридцати лет (свою знаменитую строку «Все миновалось, молодость прошла!» Блок написал в двадцать восемь, и это типичный пример). При этом (согласно «Лукреции») Время равнодушно к жизни, в которую оно не вмешивается и, соответственно, не противостоит злу.
Такою же оно, казалось бы, и в «Зимней сказке»:
Не всем я по душе, но я над каждым властно.
Борьбу добра и зла приемлю безучастно.
Я — радость и печаль, я — истина и ложь.
Какое дело мне, кто плох, а кто хорош.
Есть сходство и с идеями сонетов:
Свидетель прошлого, всего, что стало былью,
Я настоящее покрою темной пылью,
И лучезарный круг свершающихся дней
Потомки назовут легендою моей.
В «Гамлете» Время было вывихнуто, «вышло из суставов», но речь там идет скорее о текущей эпохе, и укоренившееся в русских переводах слово «век» оказывается очень подходящим.
В «Зимней сказке» Время, по его словам, все-таки влияет на жизнь, проявляя при этом собственную двойственность:
Игра и произвол — закон моей природы.
Я разрушаю вмиг, что создавалось годы,
И созидаю вновь. С начала бытия
От прихотей своих не отступало я.
Кстати, именно вторая половина «Зимней сказки» придает пьесе барочность. Акт начинается с разговора между Поликсеном и Камилло, который, как и обещал когда-то король Богемии, провел жизнь об руку с ним. Раскаявшийся Леонт послал за Камилло, и тот хочет вернуться на родину. Помимо прочего, он думает о том, чтобы облегчить Леонту горе. Поликсен отговаривает его, признаваясь: «Лучше бы мне не знать тебя вовсе, чем теперь остаться без тебя. Того, что сделал ты для меня, не смог бы сделать никто другой». Он называет Сицилию роковой страной, которая вызывает у него «тягостные мысли», и просит Камилло не упоминать о ней. Леонт переводит разговор на другую тему, спрашивая, когда Камилло «видел в последний раз» его сына, принца Флоризеля (Шекспир создал это имя, используя латинский и романский корень flor, который употребляется в словах «цветок», «цветочный»). Камилло отвечает, что не видел его уже три дня; он замечает, что принц «реже показывается при дворе и стал менее прилежен в занятиях, достойных его сана». Поликсен тоже заметил это и «немало встревожился». По его приказу за принцем следят «доверенные люди». От них Поликсен узнал, что «принц постоянно бывает в доме какого-то пастуха, который много лет назад непонятным для соседей образом из нищего превратился в богача». Камилло тоже слышал «об этом человеке» и знает, что у него «есть дочь — девушка необычайной красоты». Знает о девушке и Поликсен, который считает, что «это и есть та удочка, на которую попался мой сын». Он просит Камилло помочь ему в этом деле и перестать думать о Сицилии. Тот готов повиноваться приказанию. Нетрудно догадаться, что упомянутая девушка — дочь Леонта и Гермионы, названная Утратой, как того и хотела Гермиона, говоря с Антигоном во время его видения. Видимо, Антигон успел сказать об этом, когда его терзал медведь. Флоризеля нисколько не смущает, что Утрата — простая пастушка. Даже если бы ее отец был беден, Флоризель, конечно, любил бы ее. Он сравнивает Утрату с богиней Флорой; та управляет овцами, как Флора младшими богами. Свой титул Флоризель скрывает и называется пастухом Дориклесом, вспоминая по этому поводу, «что лучезарный Аполлон являлся, / Подобно мне, убогим пастухом». Правду знает только Утрата. То, что в разговоре с ее приемным отцом принц называет себя богатым женихом, — лишь необходимость поставить себя в равное положение. Это не пастораль, как считают многие шекспироведы, а игра в нее. Все прекрасно понимает и Утрата, говоря во время праздника:
В таком наряде я себе кажусь
Актрисой из любовной пасторали.
Перед нами — настоящие, а вовсе не пасторальные пастухи и пастушки.
На праздник, который происходит на лугу возле хижины, где живет Утрата, приходят переодетые Поликсен и Камилло. Поликсен заводит разговор с Утратой, когда она, которой отец велел «быть на празднике хозяйкой», дарит ему и Камилло букеты. Поликсен упоминает о зимних цветах (действие происходит не зимой, как в первой половине пьесы, но «недалеко и до снегов»). Утрата замечает, что «лучшие цветы в такую пору — гвоздика и левкои». Но ими она не украшает свой сад. «За что ж ты им обиду нанесла?» — спрашивает Поликсен.
Утрата отвечает:
Я слышала, что их наряд махровый
Дала им не природа, но искусство.
В словах Поликсена, безусловно, содержатся мысли самого Шекспира о единении природы и искусства:
И что же? Ведь природу улучшают
Тем, что самой природою дано.
Искусство также детище природы.
Когда мы к ветви дикой прививаем
Податок нежный, чтобы род улучшить,
Над естеством наш разум торжествует,
Но с помощью того же естества.
Утрата соглашается с этим, но отвергает предложение Поликсена посадить левкои:
Хотя румянец нравится мужчинам,
Я на лице румян не выношу
И точно также не люблю левкоев...
О косметике очень сурово высказывался Гамлет в разговоре с Офелией: «Слышал я и про ваше малевание, вполне достаточно; Бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое...» (перевод М. Лозинского). Похоже, что это выражает и отношение самого Шекспира. Конечно, мальчики-актеры, исполнявшие женские роли, нередко употребляли косметику, но этого никак не могли делать те, кто играл многочисленных героинь, переодевавшихся в мужскую одежду. И этого, судя по всему, не делал ведущий мальчик-актер последних лет шекспировской театральной деятельности — исполнитель ролей Имогены, Утраты, Миранды.
Поликсен, обращаясь к Камилло, очень хорошо отзывается об Утрате:
Среди пастушек мир не знал подобной
Красавицы. Она скромна, проста,
Все дышит в ней высоким благородством,
В такой глуши невиданным.
И однако сбываются высказанные еще раньше предчувствия Утраты:
Но ваш отец, мой благородный принц,
Когда узнает — распалится гневом.
Одно из двух должно тогда погибнуть:
Иль ваше чувство, или жизнь моя.
После того, как Флоризель просит у пастуха руки его дочери и, конечно, получает согласие, Поликсен предстает в своем настоящем виде и буквально набрасывается на сына:
Ты слишком низко пал для принца крови,
На посох ты державу променял!
Он оскорбляет и пастуха, и Утрату, угрожает сыну, что, если тот будет ходить к девушке, если даже посмеет вздохнуть, когда его разлучат с ней, то лишится трона, говорит, что пастух мог бы искупить свою вину только смертью, устрашает казнью Утрату, если она посмеет открыть Флоризелю свою лачугу или обнять его. Сказав все это, Поликсен уходит. Как и в случае с Леонтом, Шекспир показывает, что, предавшись злобным эмоциям, человек может стать совсем другим.
Утрата произносит:
Я все равно погибла — и без казни,
Но, право, он не испугал меня.
Я раз иль два хотела вставить слово,
Сказать, что над лачугой и дворцом
Одно и то же солнце светит в небе.
Флоризелю она говорит:
Прошу вас, принц, оставьте нас, я знала,
Что так случится. Будьте осторожны.
А я спала и вот теперь проснулась.
Пойду опять пасти мои стада
И горько плакать...
От пастуха Флоризель слышит суровый упрек
А ты-то, принц! Из-за твоей причуды
Погиб старик восьмидесяти лет,
Мечтавший умереть в своей постели,
В том домике, где умер дед, отец,
Лежать в могиле рядом с их костями.
Он уходит, желая лишь «умереть до казни».
К своей основной «двойной развязке» Шекспир присоединил еще одну.
Однако Флоризель не намерен подчиняться:
Зачем так странно на меня ты смотришь?
Мне тяжело, но я не испугался.
Преграды закаляют, и решенья
Не изменю я ни за что на свете.
Камилло советует принцу дождаться, пока отец остынет. Флоризель говорит: «И я дождусь», но при этом явно понимает, что такое случится не скоро. Он хочет бежать вместе с Утратой; Камилло советует им бежать в Сицилию и сказать Леонту, будто Флоризель послан «к нему с приветом и утешеньем». Очень кстати появляется Автолик — комический персонаж второй половины (в первой таких не было). Поскольку слава этого жулика и бродяги стала уже хорошо известна, то, явившись в деревню, Автолик рассказал сыну пастуха, будто его избил и ограбил... он сам.
Это позволило ему жить в деревне, продавать местным девушкам украшения и развлекать их своими песенками. Когда ему предлагают поменять свой нищенский наряд на хорошую одежду Флоризеля он, конечно, охотно соглашается. Флоризеля теперь невозможно узнать, Утрате же Камилло советует закрыть лицо шарфом и надеть на глаза шляпу принца.
Влюбленные не знают, что Камилло намерен рассказать королю «об их побеге» и открыть, куда именно «они отплыли». Он надеется, что король бросится в погоню, а Камилло, сопровождая его, увидит наконец родную Сицилию. Не успели Флоризель и Утрата прибыть к Леонту, как появляется придворный и сообщает, что в город приплыл король Богемии, который просит задержать принца, бежавшего вместе с пастушкой. Флоризель сразу понимает, что их выдал Камилло; придворный подтверждает, что тот находится вместе с государем. Леонт признается Паулине, что в Утрате ему почудилась Гермиона. Флоризелю, который в отчаянии просит у него помощи, Леонт обещает поддержку, «если брак ваш не противен чести». Но для начала он должен поговорить с Поликсеном. Между тем перед дворцом тоже оказавшийся в Сицилии (вместе с принцем, Утратой, пастухом и его сыном) Автолик, еще на родине объявивший себя по случаю удачного переодевания придворным, находится в обществе дворян. Обсуждается открытие привезенного пастухом ларца, в котором найдены мантия Гермионы, ее ожерелье, бывшее на шее ребенка, и записка Антигона, почерк которого все узнают; обнаружены также его перстень и платок, которые узнала Паулина. По словам одного из дворян, все это, а также «царственный облик молодой девушки, ее сходство с матерью, врожденное благородство осанки и тысячи других признаков свидетельствуют, что она королевская дочь». Он же рассказывает: «Наш король был вне себя от радости, что нашел пропавшую дочь. Но радость напомнила ему о другой потере, и он начал восклицать: «О Гермиона, Гермиона!» Потом он попросил прощения у богемского короля, потом кинулся обнимать своего зятя, потом принялся опять душить в объятьях свою дочь. И кончил тем, что стал благодарить старого пастуха, стоявшего тут же...
Одним словом, я никогда не слышал и не видел ничего подобного». Дворянин также рассказывает, «что Паулина хранит у себя статую покойной королевы — многолетний и недавно законченный труд знаменитого мастера Джулио Романо» (итальянский живописец первой половины XVI века Джулио Романо никогда не был скульптором). Другой дворянин замечает: «Я всегда подозревал, что у Паулины есть какая-то тайна. Со дня смерти Гермионы она по два, по три раза в день посещала свою уединенную виллу». Все отправляются смотреть статую, а оставшийся Автолик встречает пастуха и его сына, которые получили дворянство. Он просит замолвить за него словечко принцу, и Ав-толику не отказывают. Леонт, Поликсен, Флоризель, Утрата, Камилло, придворные и слуги, сама хозяйка приходят в дом Паулины. Распахивается занавес и открывает стоящую на пьедестале статую Гермионы. Утрата хочет поцеловать руку, но Паулина говорит: «Не прикасайтесь! Краски еще влажны». Она собирается задернуть занавес, однако Леонт просит оставить. Ему кажется, что статуя дышит, что глаза ее блестят. Паулина говорит:
Нет, я закрою! Право — государь
Подумать может, что от — живая.
Леонт отвечает на эта
О Паулина, если я обманут,
Пускай обман продлится двадцать лет!
Да есть ли счастье больше на земле,
Чем это счастье моего безумья!
Паулина обещает заставить двигаться изваянье. Но для этого присутствующие «должны всем сердцем верить чуду».
Она восклицает: «Музыка, играй!», и начинает звучать музыка. Далее Паулина произносит похожее на заклинание обращение к статуе, и та сходит с пьедестала.
Леонт обнимает ее и говорит:
О, теплая! Пусть это волшебство,
Ему я верю, как самой природе!
«Она его целует!» — восклицает Поликсен. «Обнимает!» — словно вторит ему Камилло. — «Она жива! Так что ж она молчит?»
Ведь вы лжецом назвали бы любого,
Кто вам сказал бы, что она жива, —
замечает Паулина.
Она просит принцессу склониться перед матерью и попросить у нее благословенья. Утрата падает на колени перед Гермионой, и та заговаривает с ней. А затем, по предложению Леонта, все отправляются за дружеский стол, чтобы расспросить и рассказать «по порядку, где каждый был, как жил он эти годы». Мнимая смерть Гермионы, то, что она скрывалась шестнадцать лет, — все это также объявлялось невероятным. А между тем причина поведения героини очень ясна. Еще когда Гермиону считали статуей, Камилло говорил Леонту:
О государь! Пора изгнать печаль!
Ужель шестнадцать лет ее не стерли!
Какое счастье может столько жить,
Какое горе вправе столько длиться!
Еще раньше похожую мысль высказывал придворный Клеомен:
О государь, довольно предаваться
Бесплодной скорби! Грех уже искуплен.
Раскаянье превысило вину.
А Леонт продолжал страдать по Гермионе, «каждый день, молясь,... плакал на ее могиле». Придворные хотели, чтобы он женился, а он соглашался с Паулиной:
Нет жен таких! И если б я женился
И отдал сердце менее достойной,
Передо мной бы встал, как судия,
Священный дух прекрасной Гермионы
И молвил бы: «За что?»
Гермиона проверяла, как долго продлится верность Леонта, превзошедшая его ревность. И когда стало ясно, что она продлится вечно... Да, появление дочери ускорило «воскрешение» Гермионы, но слова Паулины в первой сцене пятого акта показывали, что ждать Леонту оставалось уже недолго. Выше уже говорилось, что в «Зимней сказке» Шекспир завершил тему ревности. В своих поздних трагикомедиях он вообще стремился найти выход из тех ситуаций, которые в трагедиях оказывались неразрешимы, и находил этот выход гораздо убедительнее, чем кажется псевдореалистичным шекспироведам.
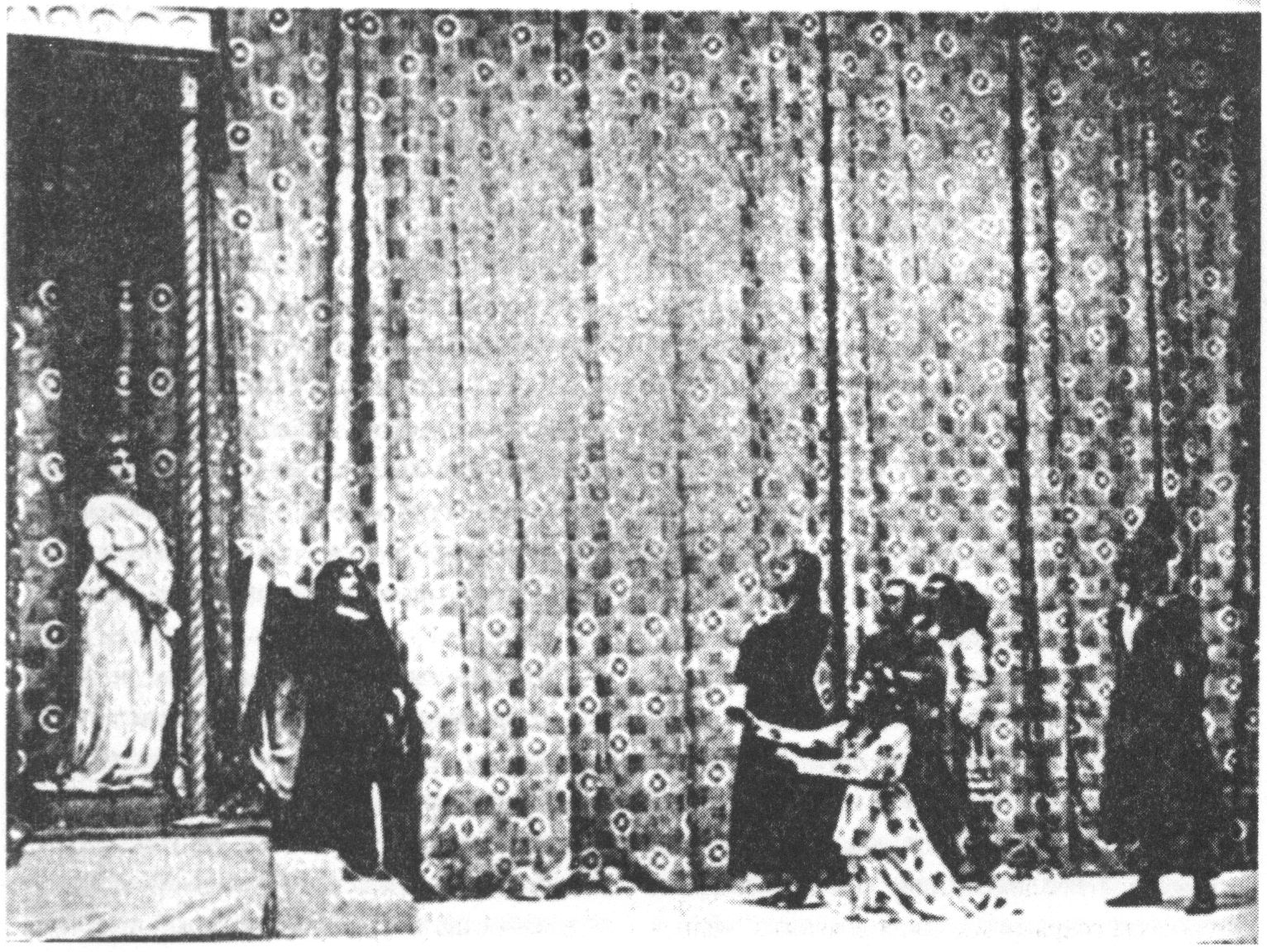
«Зимняя сказка» в постановке Харли Грэквилла-Баркера, 1912
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |