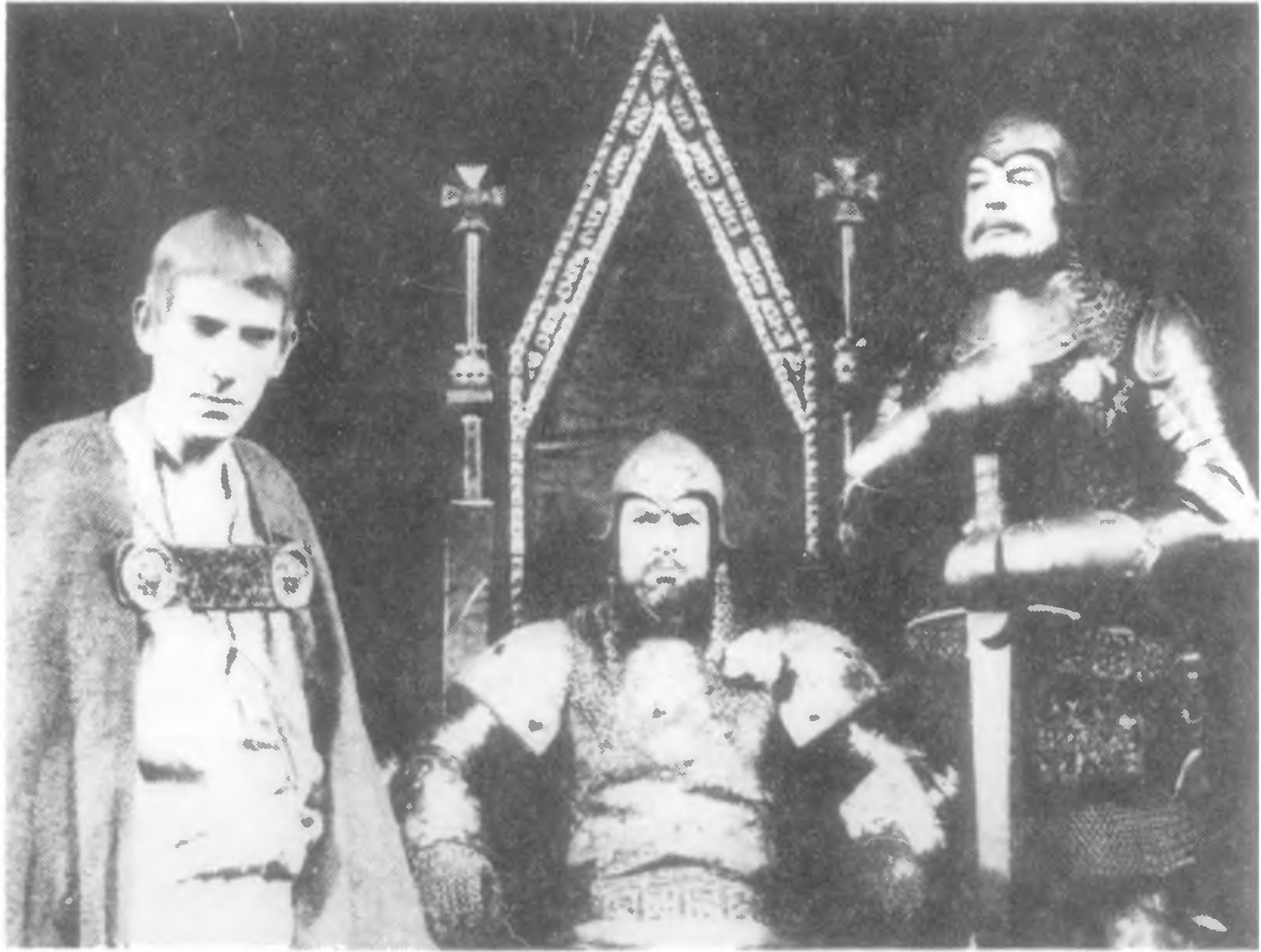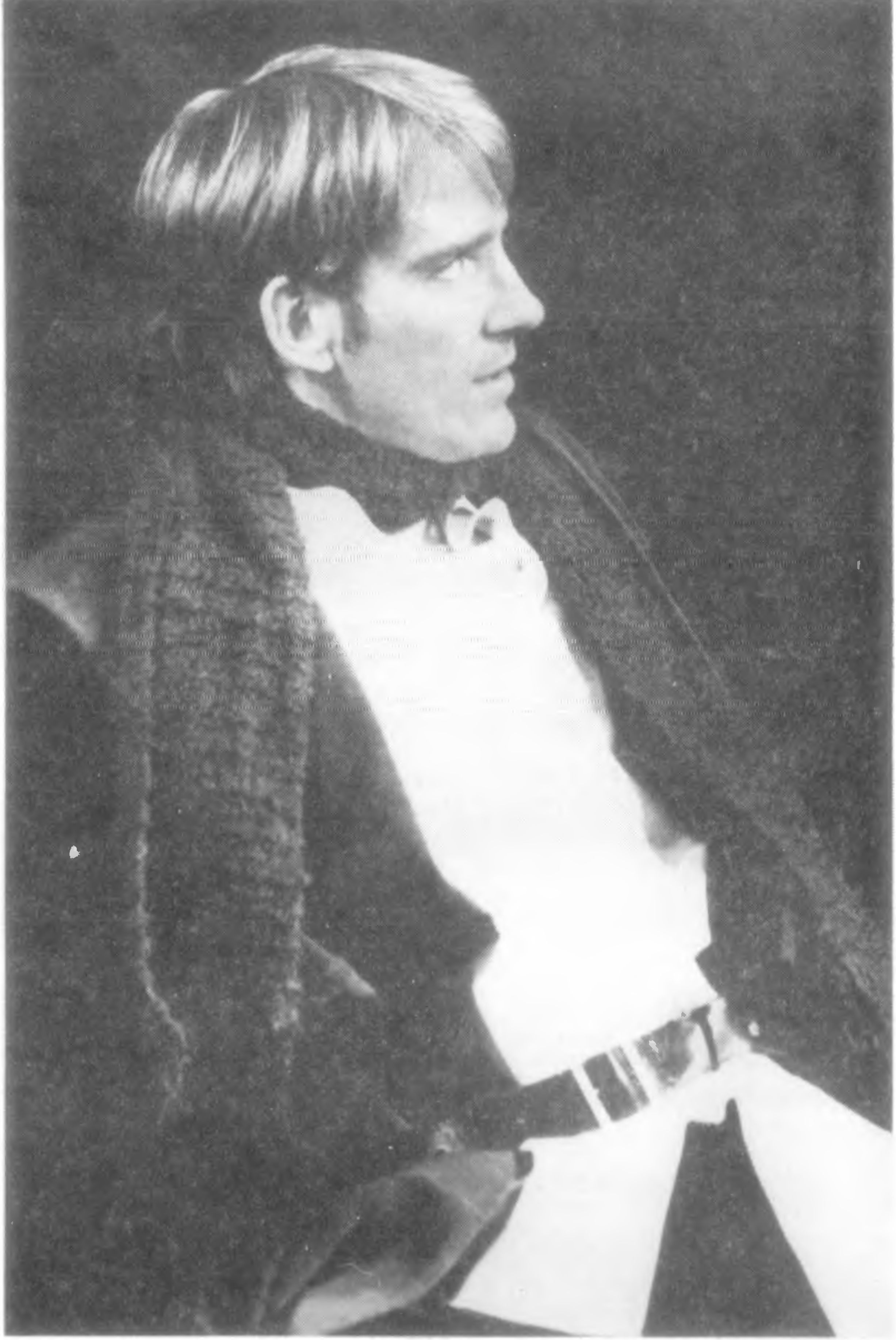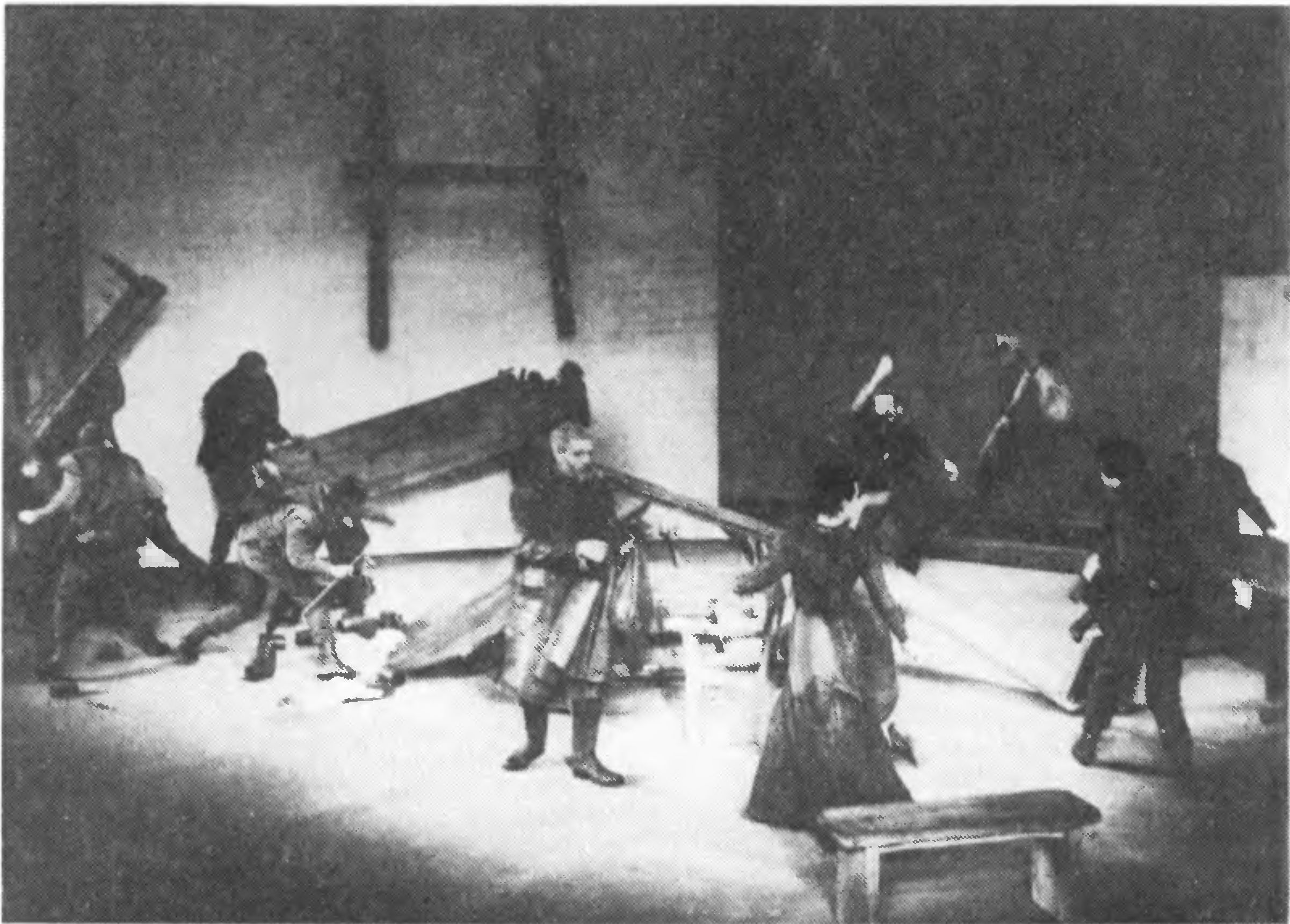Разделы
Счетчики
Питер Хол и «шекспировская революция» 60-х годов
Осенью 1948 года несколько студентов Оксфорда затеяли пылкий спор о том, кто из них с большим правом может гордиться своим происхождением. Предметы такого свойства всегда занимали умы англичан, но редко обсуждались вслух. На этот раз социальные амбиции были высказаны без околичностей и умолчания. Спорили о том, чье происхождение ниже, и каждый старался отстоять чистоту своих демократических корней со страстью, которую прежде употребляли, если уж решались это делать, на доказательство противоположного.
Тема спора, вполне, между прочим, нешуточного, мало кого могла удивить в 1948 году: слишком многие традиционные ценности были с презрением отвергнуты. Вспоминая о первом послевоенном десятилетии, Лоренс Оливье писал о том, что молодые люди, принадлежавшие к поколению «рассерженных», старались позабыть о своей принадлежности к «средним» или, не дай Бог, высшим классам и, усердно коверкая свое «кенсингтонское» произношение, выдавали себя за детей рабочих и судомоек1. Если принять во внимание, что оксфордские спорщики были людьми того же поколения и что участниками дискуссии были юные Кингсли Эмис и Джон Уэйн, то их демократический снобизм (кстати, не очень-то оправданный генеалогически) не покажется удивительным. Победителем в споре стал студент колледжа св. Магдалины Кеннет Тайнен, который с гордостью объявил, что он незаконнорожденный. «Это заставило всех замолчать»2.
Если бы волей случая в студенческом клубе Оксфорда в тот момент оказался Питер Холл (что маловероятно: он только что поступил в Кембридж), победа, без сомнения, досталась бы ему. Нетрудно предположить, с каким завистливым почтением склонились бы перед ним оксфордцы, услышав, кто были его предки, дальние и близкие. Он-то в самом деле принадлежал к социальным низам, как и многие его ровесники, хлынувшие после войны в английскую культуру и создавшие искусство «рассерженных». Они учились в «красно-кирпичных» университетах, если учились вообще; в привилегированный Кембридж будущий руководитель Шекспировского и Национального театров попал только потому, что смог, вопреки всем препонам, окончить школу как «хед бой» — первый ученик.
Дед Питера Холла по отцу был крысолов, дед по матери — маляр, отец работал на крошечной железнодорожной станции в Саффолке, где и родился в 1930 году будущий сэр Питер. В 1939 году отца перевели на станцию Кембридж, и, стало быть, детство Холла проходило совсем рядом — и бесконечно далеко — от жизни сиятельного университета. Питер Холл был одним из пяти бедных детей, принятых в кембриджскую публичную школу «Перс» «по филантропическим причинам», о чем ему не дали забыть: он официально именовался «младшим учеником» — не по возрасту, а по социальному положению.
Его происхождение не было для него поводом к демократическому самодовольству. Он по-своему любил отчий дом, всю атмосферу провинциальной жизни и поставил об этом ностальгический и чуть сентиментальный фильм «Аккенфилд». Но чтобы предаваться размягчающим душу воспоминаниям о далекой родине, надо ее покинуть. При всей своей привязанности к родным он твердо поставил себе целью во что бы то ни стало вырваться из социальных низов, найти свой «путь наверх», чем обычно и отличается настоящий плебей от притворившегося плебеем патриция.
Там, в детских унижениях, в комплексах социальной неполноценности, коренятся истоки его личности. Во что бы то ни стало прорваться, утвердить себя в жизни и искусстве, добраться до самой верхней ступени иерархии, чтобы показать «им», кто чего стоит. Весь его путь — неутомимая борьба за первенство, жадное покорение все новых жизненных пространств. Его легендарная целеустремленная воля, победоносная энергия, покорявшая одних и отпугивавшая других, создававшая ему репутацию ненасытного властолюбца, — все это были свойства, необходимые театральному реформатору. Они много лет помогали ему создавать новые театры и ставить превосходные спектакли, но они же раньше времени исчерпали его возможности как художника. Чем меньше он создавал театральных шедевров, тем больше стремился к победам на официальном поприще. Он стал в конце концов непременным членом того самого истеблишмента, который был ему в молодости столь ненавистен, и, сам поражаясь приключившейся с ним метаморфозе, он, когда-то почти социалист, стал голосовать на выборах за тори. «Молодой лев» радикальных 60-х стал сэром Питером Холлом.
Фальстаф — Р. Ричардсон. «Генрих IV». «Олд Вик». 1945
«Я был не своим в школе, не своим в городе, не своим в семье, так что любовь к искусству была отчасти невротической. Оно давало мне чувство безопасности. К четырнадцати годам цель моей жизни была уже ясна. Я хотел стать режиссером»3.
В 1946 году вместе с другими школьниками Холл предпринял велосипедный поход в Стратфорд и увидел «Бесплодные усилия любви», поставленные молодым Питером Бруком, — изящную фреску в стиле Ватто. Помимо эстетического восторга спектакль заставил кембриджского школьника испытать острое чувство зависти. Бруку только что исполнился двадцать один год, а он уже знаменит. Стало быть, у него, Питера Холла, всего пять лет в запасе. Стоя на берегу Эйвона возле Мемориального театра, он сказал себе: «Настанет день, и я возглавлю этот театр». Как показало время, это было нечто большее, чем пустые мечты и детские претензии.
Кембридж, где спустя два года начал учиться Питер Холл, как и Оксфорд, прежде традиционные оплоты британского консерватизма, стали после войны колыбелью художников, которым было суждено совершить переворот в английской культуре. В Оксфорде 40-х — начала 50-х годов учились, как мы знаем, будущие писатели Кингсли Эмис, Джон Кэйн, критик Кеннет Тайнен, режиссеры Линдсей Андерсон, Тони Ричардсон, Джон Шлезингер — будущие вожди нового театра, в Кембридже — Джон Бартон, Тони Черч, Питер Вуд, Гай Вульфенден — будущие соратники Холла по Королевскому Шекспировскому театру.
Молодые «оксбриджцы» тех лет демонстрировали отвращение к «британским ценностям». Шекспир внушал им скуку. Они делали исключение разве что для принца Гамлета, с которым чувствовали душевную связь, да и то не в привычно академическом толковании. Кеннет Тайнен, будущий идеолог «сердитых» и ярый брехтианец, а тогда экстравагантный кумир оксфордцев, запоздалый эстет в духе Оскара Уайльда (он так вжился в роль своего героя, что распускал ни на чем не основанные слухи о своей склонности к гомосексуализму), поставил сверхмодернизированную версию «Гамлета», которая называлась «Игрушки в крови», где принц убивал Полония в темноте из револьвера, Офелия вела диалог с Гамлетом из телефонной будки, в то время как принц Датский пребывал в постели с какой-то девицей легкого поведения. Уайльдовского во всем этом не было, разумеется, ничего, зато брехтовского, вернее, брехтианского — предостаточно.
Питер Холл деятельно участвовал в театральной жизни Кембриджа, играл и ставил в Обществе Марло и Любительском драматическом клубе. Он, как и многие его ровесники, был увлечен современной драмой. Шекспиру он предпочитал драматургов XX века, которых, как правило, плохо знали в довоенной Англии. О'Нил, Пиранделло, Ануй не могли делать сборы в театрах Вест Энда. Юные режиссеры, начавшие ставить современные пьесы в университетах «для своих», имели не так уж много возможностей сделать это на профессиональной сцене.
Одну из редких возможностей этого рода дал многим из них скромный лондонский театр «Артс». Этот театр, вернее, театрик (он так мал, а вход его так непараден, что найти его совсем не просто), сыграл в английской театральной истории роль лаборатории, где готовилась революция «Ройал Корта». В конце 40-х — начале 50-х годов театром «Артс» руководил актер Алек Клунс (старая московская публика помнит его в роли Клавдия, рядом с Гамлетом — Скофилдом). Он открыл свой театр, в сущности, клуб для современной экспериментальной драмы. Пьесы Ионеско, Обли, Дюрренматта ставили у него молодые режиссеры, именам которых еще предстояло стать известными. Там начинали Клиффорд Уильямс, Фрэнк Данлоп, Питер Вуд и даже Петер Цадек.
Алек Клуне увидел «Генриха IV» Пиранделло, поставленного Холлом в Кембридже, и пригласил его в свой театр. Холл ставил в «Артс» Лорку, О'Нила, Тенесси Уильямса. Но имя он сделал, поставив «В ожидании Годо», — до того Беккет никогда не шел на английской сцене. Обратившись к Беккету, Питер Холл предпринял шаг смелый и все же обдуманный и осторожный. Во-первых, пьеса уже имела европейскую славу — шел 1955 год. Во-вторых, интерпретации Холла была свойственна разумная умеренность. Он толковал Беккета в духе вполне оптимистическом: ждущие Годо, говорил он актерам, ждут не напрасно.
Писавшие о спектакле театра «Артс» с удивлением и не без удовольствия заметили, что ни на что не похожая пьеса безумного авангардиста в постановке Холла заставляет вспомнить о добром английском мюзик-холле — это немало способствовало успеху. Театр «Артс» не мог вместить всех желающих, и спектакль перенесли на коммерческий Вест Энд — событие редкостное в истории маленького театра для интеллигентной элиты, каким был «Артс». От Грейт Ньюпорт-стрит, где находится «Артс», до Пикадилли-серкес, где стоит театр «Крайтирион», в котором шел спектакль Холла, минут десять хода — и огромная дистанция, путешествие с одного уровня культурной реальности на другой. Имя молодого выпускника кембриджского колледжа св. Екатерины впервые приобрело некоторую известность.
«Троил и Крессида». Королевский Шекспировский театр. 1960
Наиболее чуткие критики ощутили в спектакле Холла какое-то обещание. Дж. Трюин писал тогда: «Постановки Питера Холла ассоциируются у меня с предгрозовой духотой, и напряженная гроза бродит где-то рядом»4. Вероятно, подобное чувство испытал Энтони Квайл, тогдашний руководитель Шекспировского Мемориального театра. Он пригласил Холла на постановку в Стратфорд. Об этом молодому режиссеру было торжественно объявлено в маленьком ресторанчике в Сохо, куда на встречу с Холлом явился весь триумвират, стоявший во главе театра, — Квайл, Глен Байем-Шоу и Джордж Девин5. Питер Холл всегда умел обольщать важных лиц — свойство, необходимое для главного режиссера. Его круглое простодушное лицо, детский румянец на щеках, живой ум и восторженная внимательность к собеседнику, кембриджское красноречие и, главное, обилие новых идей при полном отсутствии юношеского максимализма, способного напугать старших, как обычно, оказались неотразимы — кто знал, что за мягкостью и простодушием скрывались железная воля и холодный ум. «Вот кто когда-нибудь сменит нас в Стратфорде», — шепнул Квайл Глену Байем-Шоу, конечно, не догадываясь, что высказал заветную идею Питера Холла, осуществления которой он не хотел дожидаться слишком долго.
Как и Питер Брук за десять лет до того, Питер Холл начал в Стратфорде с постановки «Бесплодных усилий любви». Триумфа, подобного бруковскому, он не добился, но его ясный, строго выстроенный и по-уайльдовски элегантный спектакль имел хорошую прессу. В нем не было ничего слишком уж нового, ничего такого, что говорило бы о том, что только год назад этот режиссер ставил авангардиста Беккета. Уверенной рукой молодой режиссер собрал вместе все то, что ценила в классическом театре стратфордская публика: эстетическое равновесие, «радость для взора», но без чрезмерной роскоши, холодноватое спокойствие, мир, далекий от тревожной реальности.
Это был 1956 год — тот самый год, когда на сцене «Ройал Корта» оксфордец Тони Ричардсон поставил «Оглянись во гневе» Джона Осборна, год, с которого ведется отсчет новой эпохи в английском театре.
Театральная революция, в сущности, не коснулась Шекспировского Мемориального театра, в котором Энтони Квайл и Глен Байем-Шоу старались, поддерживая жизнь увядающей традиции, одновременно избавить Стратфордский театр от комплекса провинциализма, подумывали об открытии лондонского филиала и добивались — с успехом — приглашения в шекспировский город «звезд» первой величины. В 50-е годы на стратфордской сцене играли Л. Оливье, Вивьен Ли, Дж. Гилгуд, Ч. Лоутон, Э. Эванс. Однако избавиться от провинциализма не в географическом, а в эстетическом значении это не помогло (притом что были такие исключения, как «Тит Андроник» Брука).
Вслед за Девином подал в отставку Квайл, получивший соблазнительные предложения в США. Глен Байем-Шоу добился того, чтобы одним из руководителей театра стал молодой Холл — шаг по тем временам отважный. Байем-Шоу, который не был, вероятно, крупным режиссером, обладал редким талантом бескорыстия и способностью любить талантливую молодежь. Он прямо называл Питера Холла театральным гением и объявил, что видит в нем преемника, которому скоро передаст бразды правления. Впрочем, и молодой режиссер без устали подчеркивал приверженность к традиции. Когда решение было обнародовано, Холл заявил, что с его приходом в Стратфордском театре не произойдет никаких революционных перемен. Его спектакли, эстетически безупречные, отмеченные печатью сознательно умерявшейся новизны, вполне это подтверждали.
Один из них увидели наши зрители. В 1958 году Мемориальный театр показал в Москве две постановки Байем-Шоу — «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» — и спектакль Холла «Двенадцатая ночь». Все три находились в русле единого стиля, почерк юного Холла не так уж сильно отличался от режиссерских привычек стареющего мастера, которые легче всего охарактеризовать по принципу отрицания: в его спектаклях не было ни слишком старомодной викторианской помпы, ни сколько-нибудь ясно выраженной интерпретирующей воли. С уст критиков не сходило одно слово: «деликатность».
В «Двенадцатой ночи» была чистота линий и молодое обаяние, но обаяние не какого-нибудь юного ниспровергателя, а благорасположенного к миру и покойно в нем себя чувствующего первого ученика публичной школы. В последней веселой комедии Шекспира Холл и его художница Лилла де Нобили почувствовали осеннюю красоту увядания, поэзию вечернего света, на сцене господствовали лимонно-желтые, блекло-голубые тона, свет заходящего солнца мягко обтекал вещи и фигуры людей, сглаживая острые очертания. Тут не было ни площадной стихии, ни затаенной тревоги, заложенной в пьесе и снедающей мир бергмановской «Двенадцатой ночи». Режиссер и художник передвинули действие комедии к временам Карла I: речь, стало быть, шла о последнем тихом празднестве английской старины, знающем, что оно последнее, но не испытывающем по этому поводу никакой горечи, — разлука, не обремененная сожалениями и разве что исполненная легкой меланхолии. Холл совершал с историческим временем двойную операцию: атмосферу «золотых дней короля Карла» воссоздавали такой, как ее чувствовали и понимали в викторианском искусстве; не случайно голубой шелковый костюм Цезарио — Виолы был в точности скопирован с одежды мальчика, героя известной исторической картины художника XIX века У. Иймса «Когда ты в последний раз видел своего отца?». Создавалась, таким образом, тройная историческая перспектива; английская утопия пропускалась через восприятие людей позднего времени, знающих о неизбежности ее утраты и ею любующихся. Спектакль рисовал картину далекой — и в силу самой своей удаленности — прельстительной жизни.
Питер Холл, в сущности, начинающий режиссер, с легкостью овладел театральным языком, всей системой сценического мышления 40—50-х годов, «добрехтовского» и «доосборновского» периодов истории английского театра. Так бывает с поколениями, которым предназначено изменить облик искусства: они часто начинают с того, что без усилий, играючи, одним махом постигают художественный язык, создававшийся их предшественниками ценою долгих опытов и исканий. Они, эти молодые мастера, доводят искусство отцов до такой осознанной виртуозности и технического блеска, которые отцам и не снились, и происходит это именно потому, что новые люди находятся одновременно внутри и вне сложившейся системы, способны взглянуть на нее со стороны, понять, «как это сделано», и дать суть и квинтэссенцию с тем большей уверенностью, что они этой системе не принадлежат целиком и видят в ней не способ выразить мировоззрение, а сумму технических приемов. Пребывая в пределах традиции, они в то же время дополняют ее вполне чуждыми ей деталями, намекая на то, что у них есть в запасе нечто иное, чем искусство, на языке которого они взялись объясняться с публикой.
Этот отчужденно-лукавый, холодновато-игровой взгляд на задачи шекспировской режиссуры проявился в постановке «Сна в летнюю ночь» (1959). Холл поместил действие комедии во двор елизаветинского замка — с галереями для менестрелей, лестницами и тяжелыми дубовыми балюстрадами, с зеленым лесом на заднике, выполненном совершенно в духе викторианской традиции: постепенно лес наступал на замок, лестницы и переходы покрывались натурально воспроизведенными травой и кустами, как в сказке о спящей красавице. Лирические герои, традиционно решенные, были одеты в пышные елизаветинские костюмы, но при этом босы. Босые ноги, шуршащие по устланному настоящей соломой полу, — это деталь какого-то иного театрального языка. Главное же, эльфы, гораздо меньше похожие на традиционных балетных сильфид, чем на уличных мальчишек. Некоторые романтически настроенные критики сравнили их с проказниками из компании Питера Пэна, но большинство узнало в феях «бесцеремонных тинейджеров середины XX века», начиненных опасной энергией, притом явно сексуального происхождения.
«Кориолан». Финал. Шекспировский Мемориальный театр. 1959
«Кориолан» (1959) был поставлен в Стратфорде для Лоренса Оливье: первая и последняя встреча на сцене этого режиссера с этим актером через полтора десятилетия их отношений составит одну из самых драматических историй в закулисной жизни современного английского театра. Холл, как он умел, отступил на второй план. Он словно застыл в позе беспредельного (искреннего!) почтения, не смея вмешиваться в труд гения и видя свою задачу в изобретении мизансцен, которые с максимальной эффектностью подавали бы главного актера. Публика запомнила два момента: первое появление Кориолана, внезапно возникавшего на вершине скалы, «как призрак орла», и в особенности финал, когда окруженный врагами герой взбегал на вершину лестницы, отбрасывал меч, в него тут же вонзалась дюжина копий, и он рушился с высоты, повисая вниз головой (два актера в последний момент хватали его за лодыжки и держали, пока он висел, как убитый Муссолини: аллюзия была, разумеется, намеренной). Зал единодушно ахал и разражался овациями. Кеннет Тайнен тогда писал: «Более шокирующей, менее сентиментальной смерти я не видел в театре, она сразу горда и бесславна, как и подобает титаническому дураку, который умирает этой смертью»6. Вряд ли Оливье согласился с подобной характеристикой римского тирана, но, без сомнения, слова «шокирующая» и «несентиментальная» ему импонировали: тут поколение Тайнена — Холла сходились во вкусах с актером, не случайно он уже сыграл Арчи Райса в пьесе Осборна.
Был в «Кориолане» момент, предвещавший будущий сценический стиль Холла: начало спектакля. Сцена открывалась в полутьме и тишине, которая тут же сменялась оглушительным звоном колоколов и яростными криками толпы, врывавшейся в узкие ворота. «Массовка», казалось бы, взята из репертуара театра прежних времен — от Чарлза Кина до Макса Рейнхардта. Но вряд ли о традиционной театральной толпе можно было бы сказать то, что сказал один из критиков: толпа «выблевывается из самых глубин земли» (Фрэнк Гренвилл-Баркер)7. Это слово, физиологичное, снижающе-грубое и вряд ли случайно вырвавшееся у критика, — из брехтианского театрального лексикона 60-х годов.
Высшей точкой эволюции «раннего Холла» стала постановка «Троила и Крессиды» (1960), этой странной комедии, которой обыкновенно чуждался театр. На сцене перед задником «цвета засохшей крови» стоял восьмиугольник, заполненный белым песком: «...бесплодная земля на задворках империи». Песок, в котором увязали босые греки и троянцы, казался раскаленным. Мы, писал П.А. Марков, видевший спектакль в Стратфорде, «словно ощущаем сухой ветер Малой Азии»8. На песке герои любили и убивали друг друга. На нем, как на детской площадке, сидел силач и тупица Аякс и лепил песочные пирожки. Подмостки напоминали английским критикам то арену для корриды — с нее, как убитого быка, утаскивали покрытое песком и кровью тело Гектора, — то, в согласии с гротескно-снижающим стилем спектакля, «игровое поле для школьников-переростков».
Маркова поразили батальные сцены, в которых люди схватывались — среди облаков дыма и взметенного песка — в кровавой, жестокой резне, совсем не похожей на оперные бои традиционного театра. Современный смысл «Троила и Крессиды» был очевиден. Такая обнаженность политической идеи была новостью для стратфордских подмостков.
Так, шаг за шагом, на сцене Мемориального театра складывался тот деромантизирующий брехтианский стиль, с которым привыкли связывать эстетику шекспировских спектаклей 60-х годов.
Одновременно с подготовкой эстетических перемен Питер Холл разрабатывал стройную систему обновления всей организационной структуры театра. Замысел приобрел новые очертания еще в 1958 году, когда Холл получил официальное предложение войти в руководство Стратфордского театра. Он изложил свой план главе попечителей театра Фордему Флауэру, внучатому племяннику основателя Мемориальной сцены. Этот исторический как для самого Холла, так и для судьбы английского театра разговор, британский вариант «Славянского базара», проходил — что за многозначительная игра случая! — на русской почве. В декабре 1958 года, когда театр был на гастролях в Ленинграде, Холл и Флауэр встретились в номере «Астории» (атмосфера и обстановка гостиницы почему-то вызвали у обоих ассоциации с «Вишневым садом»)9. Всю ночь Холл с пылкостью романтика и расчетливостью коммерсанта рисовал перед взорами Флауэра захватывающую картину будущего устройства труппы.
Молодой режиссер предложил организационную структуру, не имевшую прецедентов в английской театральной истории. По своему обыкновению, Холл использовал многие идеи, давно носившиеся в воздухе, но он привел их в систему, новизна которой была именно в ее целостности.
Театр должен расстаться с прежним названием, слово «Мемориальный» отдает музейной затхлостью. Слово отбрасывалось, и вместе с ним уходил целый пучок ассоциаций, связанных с образом почтенного, но безжизненного искусства, существующего в социальном вакууме, с системой религиозных ритуалов поклонения бессмертному Барду, никак не пересекающейся с реальностью XX века, и со всем тем, чего современный человек ждет от современного театра. Театру предстояло теперь называться Королевским Шекспировским.
Театр должен получить филиал в Лондоне. Не только для того, чтобы вырваться за пределы провинциального существования и стать частью современной театральной жизни, но прежде всего ради целей эстетического обновления. Труппа, играющая сочинения одного, пусть величайшего из великих, автора, обречена на художественную и духовную изоляцию: есть что-то противоестественное в том, что актеры разлучены с современной драмой, с процессами, происходящими в современных формах искусства и в сегодняшнем обществе, и обязаны по контракту вести существование какой-то жреческой касты. Классический и современный репертуары должны стать сообщающимися сосудами, актер должен приносить в шекспировские постановки мирочувствие и эстетический опыт современной драмы. И напротив, актеры, приученные к шекспировскому масштабу, смогут обогатить пьесы современных авторов. Пусть уж в Стратфорде по-прежнему играют одного Шекспира — в лондонском филиале будут играть все: и пьесы Барда, и пьесы Беккета и Чехова. Шекспировский театр будет не национальным заповедником, не величественной резервацией, а современным театром, исполняющим, по существу, миссию театра национального.
Вместо системы «звезд», с помощью которой Г. Байем-Шоу и Э. Квайл хотели спасти Мемориальный театр от провинциального убожества, — целостная труппа, то, что в России (Холл ссылался на опыт старого МХТ) называют «коллективом единомышленников», а англичане в духе спортивных традиций публичных школ и университетов предпочитают называть «командой». В английских условиях невозможно, а может быть, и не нужно иметь постоянную труппу на манер «Комеди Франсэз» или того же МХТ. Холл предложил разумный компромисс — систему трехлетних контрактов, притом, что контракты с основным ядром труппы постоянно продлеваются. От каждого их двух известных в истории театра принципов заимствовалось лучшее: подвижность труппы могла сочетаться с ее постоянством, позволяющим строить долговременную художественную политику.
Королевский Шекспировский театр должен стать культурным центром всемирного значения. Он будет включать в себя экспериментальную студию, в которой будут заниматься актеры театра и которой будут руководить интереснейшие современные режиссеры, систему просветительной деятельности — библиотеки, галереи, летние курсы для учителей английской литературы, маленькую разъездную труппу, которая будет играть в школах, на фабриках, в муниципальных залах маленьких городов.
«Война роз». Королевский Шекспировский театр. 1963
Работа театра должна субсидироваться государством — идея, с которой давно носились в Англии и которая дотоле только идеей и оставалась.
Можно представить себе волнение Фордема Флауэра, когда режиссер развернул перед ним свой план, столь же смелый, сколь и продуманный. Это означало решительный поворот в судьбе Стратфордского театра и приход трудного времени в жизни самого Флауэра. Он сказал твердое «да». Без его помощи Холлу, при всех его талантах, не удалось бы убедить совет попечителей, состоявший по большей части из людей, далеких от театра, а затем и власти, к театральным делам традиционно равнодушные. Может быть, одной из причин, почему Флауэр без колебаний принял сторону Холла, было то, что в программе, которая была изложена ему в ленинградской гостинице, он узнал многие из планов, которые когда-то строил его двоюродный дед Чарлз Флауэр. Времена, столь удаленные одно от другого, вдруг сомкнулись.
С 1960 года новая система вступила в действие. Было выполнено почти все из задуманного, кроме одного — студии. Она начала работать, но скоро распалась как из-за болезни руководителя студии Майкла Сен-Дени, так и из-за того, что актеры, справедливо почитавшие себя профессионалами, отнюдь не рвались снова стать учениками. Впрочем, Холл все равно ввел обязательные для членов труппы уроки стиха и сценического движения.
Почти два года жизни все силы и все время Холла были отданы переустройству театра. Свою программу он осуществлял железной рукой, не жалея ни себя, ни других. Наступил его звездный час.
Для того чтобы исполнить все, что было задумано и о чем возвестили «городу и миру», ему нужно было привлечь в театр новых людей, его сверстников и единоверцев. Он ввел в дирекцию Питера Брука, пригласил на постановку Линдсея Андерсона, режиссера «Оглянись во гневе». Ему нужна была поддержка «великих стариков». Он ввел в дирекцию Пэгги Эшкрофт.
Уступая ему власть в Стратфорде, Энтони Квайл намекнул на то, что готов в будущем принять приглашение и поставить в обновленном театре спектакль. Приглашения, к молчаливой обиде Квайла, не последовало. Возможно, это было не вполне справедливо с точки зрения обычной человеческой этики, но более чем понятно с точки зрения законов театра: тот, кто уходит, должен уйти навсегда.
Скоро покинул Стратфорд и тот, кто привел Холла в театр и всячески покровительствовал молодому режиссеру. Глену Байем-Шоу, приверженцу традиций Мемориальной сцены, не было места в преображавшемся театре. Никто не указывал ему на дверь, но, понимая, что лишний, Байем-Шоу в 1959 году подал в отставку. Холл не удерживал его: дело есть дело.
Усилия Питера Холла начали приносить плоды в 1962 году. Королевский Шекспировский театр вступил в полосу расцвета и всемирной славы. «Король Лир», поставленный Питером Холлом, обозначил радикальный поворот в мировой истории шекспировских постановок и дал формулу театральной интерпретации Шекспира, воспринятого через исторический опыт послевоенной эпохи и в круге идей современного искусства — поэтики Брехта, соотнесенного с Беккетом. Воздействие бруковского «Лира» не только на постановки Шекспира, но и вообще на сценическое прочтение классики в 60—70-е годы оказалось могущественным.
В русле этих открытий лежала и постановка «Войны Роз» — вероятно, лучшее, что было создано Питером Холлом. «Война Роз», композиция по трем частям «Генриха VI» и «Ричарда III», была поставлена в 1963 году. Через год, в дни шекспировского юбилея, Холл показал две части «Генриха IV» и «Генриха V» — позднюю историческую трилогию Шекспира. Все вместе сложилось в гигантское историческое полотно, полное современного смысла.
Генрих VI — Д. Уорнер, Маргарита — П. Эшкрофт. «Война роз»
Холл привлек к сотрудничеству двух режиссеров — Джона Бартона, давнего друга по Кембриджу, и юного Фрэнка Эванса, скоро канувшего в полную безвестность.
Холл интерпретировал хроники Шекспира как произведения политического театра, трактующие вопросы соотношения судеб человечества и логики исторического процесса. Сама циклическая структура хроник позволяла обнажить смысл — или бессмыслицу — истории в пределах большой протяженности исторического времени.
Ставить целиком огромные и неловко, как полагали в Стратфорде, выстроенные пьесы начинающего Шекспира, да еще написанные в сотрудничестве с другими авторами, казалось Холлу не только рискованным, но и бесцельным. Нужно было действовать в духе Брехта — автора переделки «Кориолана». Создание композиции, получившей название «Война Роз», было поручено Джону Бартону. Ученый академического склада, знаток староанглийского языка (Холл, будучи студентом, играл в одном из спектаклей Бартона, поставленном на «настоящем елизаветинском языке»), ревнитель чистоты классического текста, Бартон совершил то, что ему самому еще недавно показалось бы кощунством. Он решительно сократил текст, превратив три части «Генриха VI» в две; вторая носила название «Эдуард IV»10. Он вставил в шекспировский текст куски из исторических сочинений тюдоровской эпохи и наконец сам сочинил множество стихов в шекспировском стиле там, где сокращенные сцены нуждались в связующих строчках. Операция, произведенная над классическим текстом ученым кембриджцем, показалась сверхрадикальной не одним педантам.
Но переделки, которым режиссеры «Войны Роз» подвергли шекспировские хроники, вовсе не говорили о пренебрежении к классику. Холл и Бартон видели в стрэтфордце союзника. Они питали к нему уважение, лишенное, однако, казенного пиетета. Для них Шекспир был свидетелем обвинения на процессе, где судили историю. Хроники, традиционно воспринимавшиеся то ли как диалогизированные трактаты во славу британского прошлого, то ли как повод для красочных патриотических зрелищ, были в глазах молодых режиссеров шекспировского театра первым в истории образцом документальной драмы. Прорваться к лежащей за шекспировскими текстами действительности, услышать — и передать — шум живой жизни, звуки голосов, крики раненых, лязг мечей и в то же время обнажить логику движения истории — такою была двусторонняя задача постановщиков «Войны Роз». Не ломать, не насильничать над беззащитным классиком, но открыть в его «свидетельских показаниях» их действительный смысл, который может быть понят только в свете позднейшего исторического опыта. Война Ланкастеров и Иорков помогала осознать драмы второй мировой войны; и напротив: в прошлом ровесники «сердитого» поколения искали подтверждения универсальности собственных коллизий. Почти одновременно с «Войной Роз» создавались исторические драмы Ардена, Осборна, Болта.
Композиция сосредоточивалась вокруг политических тем — война, власть, государственное насилие, в ней речь шла о повторяющихся схемах истории. Открытый взгляду механизм фабулы представал как иронический в своей неотвратимости ход исторического целого.
Питер Холл говорил о своем отвращении к «голливудскому» взгляду на историю, когда временная дистанция эстетизирует события и лица прошлого и они рисуются то в элегической дымке, то в героических праздничных красках. Этому царству шелка и бархата, патетических жестов и благозвучных голосов «Война Роз» бросала прямой вызов, противостояла бескомпромиссно и по всем статьям. Молодая режиссура врывалась в святилище британских традиций с плебейской бесцеремонностью, с горьким и циничным смехом, с отрезвляющим знанием людей XX века — и с именем Брехта на устах.
На подмостках Стратфорда ветхий бархат традиции отдирали от тела шекспировских хроник с той же мрачной радостью, с какой развенчивали героические мифы национального прошлого. Патриотическому обману предпочитали «тьмы низких истин».
Первое слово в истории нового стиля Королевского Шекспировского театра (стиля интерпретирующей мысли точно так же, как и театральной лексики) было сказано не в «Войне Роз» и не Питером Холлом. Новая эпоха началась в 1962 году, когда Брук поставил «Короля Лира». Холл, как обычно, следовал во втором эшелоне, выступая в предначертанной ему природой его дара роли собирателя, чутко откликающегося на явление плодоносных идей, немедленно их подхватывающего и осуществляющего с размахом и блеском. В те годы, в полосу его расцвета, он особенно был отзывчив на веяния театральной современности. В исторической памяти европейского театра именно «Война Роз» и последовавшая год спустя постановка второй трилогии — «Генрих IV» и «Генрих V» — запечатлелись как первое и главное слово новой эпохи шекспировской режиссуры, ибо все слагаемые этой новой эпохи были выражены у Холла с последовательностью, мощной театральной энергией и общепонятностью (важный атрибут искусства, рассчитанного на массовую аудиторию).
Питер Холл, Джон Бартон и художник Джон Бьюри заключили шекспировские сюжеты о политических страстях, интригах, страхе и ненависти в обнаженное пространство истории, в космически холодный мир, сложенный из металлических глыб, отливавших тусклым блеском.
Грозное гулкое пространство, в котором критикам виделось то некое чудовище с железными челюстями, то бункер, способный выдержать удар атомной бомбы, то гигантская стальная клетка, заключало в себе образ страшного вселенского механизма, устройства которого не дано знать ни тем, кто бьется за власть, ни тем, кто надеется от этих битв уклониться: все они обречены быть вовлеченными в работу этой безжалостной машины11.
Гамлет — Д. Уорнер. Королевский Шекспировский театр. 1965
Мир, полный лязга и скрежета, предсмертных хрипов и нескончаемого кровопролития. Время, кажется, застыло в бездвижности — о ходе его говорит разве что вид стальных доспехов, сиявших вначале и покрытых ржавчиной в конце.
Центр почти пустых подмостков занимал огромный, окованный железом стол государственного совета. Люди, сидевшие за ним, один за другим исчезали, на смену им являлись другие, победители становились побежденными, и вновь сменялись люди за столом — сидели на тех же стульях, в тех же позах; теми же голосами произносили те же слова о благе нации и коварстве предателей — что тот солдат, что этот. К финалу стульев оказывалось больше, чем людей — за столом некому уже было сидеть.
Критики писали об «ужасающем реализме» батальных сцен. Не эффектные поединки в духе Вальтера Скотта, а страшные потные схватки, с проклятьями и хриплыми криками. «Сражение Ричарда и Ричмонда яростно, примитивно и ужасно — такой была Война Роз»12.
Тяжелые топоры, гигантские двуручные мечи, грохочущие по обитому железом полу и со свистом рассекающие воздух в миг битвы. Сражающиеся рыцари напоминали молотобойцев — тяжек труд убийства.
Образ войны, увиденный не из романтической дали, но глазами поколения, чье детство пало на военные годы, поколения, отвергшего героические сантименты отцов.
Зверства, ставшие буднями. «Держа в руках отрубленную голову врага, Уорик интересовался: «Кто и как сделал это?» — обыденщина, из которой сделан мир»13. Леди Анна, плюющая в Глостера через голову окровавленного трупа. Тело Клиффорда, деловито, как в мясницкой, расчленяемое на сцене. Описанный всеми критиками жутковатый всплеск, когда топят Кларенса в бочке с мальвазией. Моменты оглушительной тишины, вдруг сменяющие грохот боя, — в финале «Генриха V» победители спешат убраться прочь: внезапно наступившая тишина их смертельно пугает.
На все это зрелище кровавой игры политических интересов театр смотрел трезвыми глазами аналитика, не давая увлечь себя справедливому гневу: в спектакле заключен был беккетовский «холодно безучастный взгляд на микрокосм истории»14. Вместе с Уориком театр мог бы спросить: «Кто и как сделал это?» Поскольку вопрос «кто?» оставался без ответа, тем более занимал вопрос «как?».
Совершенно в духе политической мысли и искусства 60-х годов историю рассматривали как равнодушный ко всему человеческому надличный механизм, до конца, до последнего предела детерминирующий жизнь и деяния людей, которые становятся всего лишь беспомощными «частями этой машины», вовлеченные в ее безжалостный ход, становящиеся по очереди палачами и жертвами, не способные выбрать или переменить свою участь. Кровавое колесо исторического механизма описывало круг за кругом, каждый раз возвращаясь к началу. Воцарение юных монархов в финале хроник, наперекор Шекспиру, не должно было внушить зрителям надежду на исторические перемены — так было, так есть, так будет. Питер Холл доказывал, что приход Ричмонда в конце «Ричарда III» не изменит ничего в судьбе английской нации; режиссер отказывался разделить монархические иллюзии автора.
Это меланхолическое философствование на тему исторического детерминизма сразу же обнаруживало воздействие концепций Яна Котта, изложенных в его книге «Шекспир — наш современник», в которой он приложил к шекспировским пьесам интеллектуальные схемы экзистенциалистов. Легко теперь упрекать польского критика в поверхностном журнализме, в пристрастии к эффектным трюизмам и т.д. Но невозможно отрицать то почти магическое впечатление, которое в 60-е годы произвели идеи Котта на режиссерские интерпретации классика.
Театр 60-х годов, увлеченный тем, что тогда же назвали «поэзией закономерностей», которая объединяла в глазах режиссеров таких разных художников, как Брехт и Беккет, не мог не попасть под гипноз стройной системы идей Котта, предлагавшего, в сущности, готовые концепции спектаклей.
Питер Холл на репетиции «Кориолана». Национальный театр. 1984
Другое дело, что художники способны были легко преодолеть умозрительный схематизм Котта; так содержание бруковского «Лира» много шире смысла статьи Котта «Лир, или «Конец игры». Так Джорджо Стрелер, поставивший в 1965 году композицию по хроникам Шекспира, названную «Игра сильных», облек «коттовский» каркас интерпретации в усложненную пиранделлианскую форму, с бесконечно умноженной серией взаимоотношений реальности и театральной иллюзии. Но само присутствие идей польского автора не отрицал никто, включая итальянского режиссера.
Идея детерминизма, определявшая философско-исторический строй «Войны Роз» (воздействие Котта дополнялось социологическими увлечениями брехтианцев 60-х годов), не могла до конца подчинить себе театральную материю спектакля. Теоретические схемы вступали в противоречие со свойственными британскому театру и вообще британской культуре (и конечно, Шекспиру как воплощению британского духа) нелюбовью к абстракции, вкусом к отдельному, частному, влечением к плоти, запаху, вкусу и цвету жизни в ее непосредственном движении, жадным любопытством к неповторимости человеческого характера, почти физическим чувством вещественности поэтического слова. Все рассуждения режиссеров и критиков о человеческой несвободе, о людях как беспомощных пешках в игре исторических сил казались несущественными, когда на сцену выходили «две команды настоящих мясников»15 — благородные лорды Ланкастеры и Иорки, когда, казалось, все подмостки заполнял Эдуард IV — Рой Дотрис — «беспутное, жестокое, ревущее существо, чья животная энергия клокотала одинаково жарко, был ли он в своем золотом панцире на поле боя или, обнаженный, в постели со своей шлюхой»16; когда в «Генрихе IV» огненно-рыжий Перси, «хохоча, летит на Хэла с гигантским, страшно звенящим двуручным мечом»17.
Люди и вещи на сцене были сколочены прочно и грубо, плотничьим топором и долотом. «Скелет» детерминистских конструкций был покрыт мощной живой плотью. «Тут, — писал Бернард Левин в «Таймсе», — вся солидность и шероховатость английского вяза и английской истории»18.
В том же 1963 году Джоан Литтлвуд поставила в своем театре «Уоркшоп» мюзикл «О, что за прекрасная война!». Священные понятия милитаристской государственности предавались балаганному развенчанию. Войне противостояла торжествующая сила жизни, воплощенная в игре вольных лицедеев. Литтлвуд поставила спектакль о противоестественности войны, о том, что война и насилие чужды нормальной человеческой природе.
Взгляд на мир и человека, заключенный в шекспировском спектакле Питера Холла, был далек от прекраснодушного оптимизма Джоан Литтлвуд, питавшегося наследием социалистических иллюзий 30-х годов. Опыт войны, осмысленный поколением 60-х годов, не подтверждал слишком оптимистических суждений о человеческой природе. Две темы равно занимали Питера Холла в шекспировской хронике и в окружающей жизни: логика надличных законов, управляющих политическим космосом истории, и жизнь внутренних сил, движущих микрокосмом человеческой личности, — «анализ природы власти, жажды власти и злоупотребления властью» и исследование «человека как существа, находящегося во власти инстинктов»19.
В «Войне Роз» борьба классов и кланов, столкновение воинственных феодалов толковались как битва освобожденных войной инстинктов, как безжалостная схватка разбуженных архаических сил. Сражающиеся за британскую корону Иорки и Ланкастеры в точности напоминали враждующие первобытные племена. Критика писала о развязанной на сцене «орган дикарства». Сцена, в которой мстительная королева Маргарита увенчивает побежденного Иорка шутовской бумажной короной, превращалась в жестокое обрядовое действо первобытных времен — жертву увенчивали, прежде чем убить. Связи прочерчивались с открытостью почти иллюстративной. «Мистер Холл, — с некоторым неудовольствием замечает критик, — настаивает на том, что эта сцена становится языческим ритуалом»20.
Вопрос об индивидуальных истоках социального зла, о разрушительных инстинктах, дремлющих под тонкой оболочкой европейской христианской цивилизации, остро волновал театральных, и не только театральных, современников Холла.
В 1961 году Королевская Шекспировская труппа открыла свой лондонский филиал «Олдвич» пьесой Дж. Уайтинга «Дьяволы», специально заказанной Холлом для первого в истории Шекспировского театра представления пьесы современного автора. Чем руководствовался Холл, обсуждая с драматургом план будущей пьесы (ее сюжет навеян сочинением О. Хаксли «Дьяволы из Лудена»), кроме неизбежного условия, что она должна быть рассчитана на большую труппу и объемное пространство сцены? Действие пьесы происходит в XVII веке, фабула внешне напоминает «Сейлемских ведьм» А. Миллера. Но внутренний центр пьесы — не само по себе противопоставление религиозного обскурантизма и вольномыслия, не охота на ведьм и суд инквизиции, даже не гибель на костре священника-либертина, обвиненного в том, что с его помощью в монахинь Луденской обители вселились бесы. Драматурга, режиссера Джона Вуда и, вероятно, Питера Холла более всего занимали сами психологические механизмы, управляющие одержимыми бесовством женщинами, то, как монашеская смиренная жизнь взрывается демоническими вихрями, разумеется, эротического свойства, выпущенными на волю из глубин подсознания и объединяющими монахинь в коллективном экстатическом действе, черной мессе, похожей на первобытные шаманские ритуалы.
Через год в помещении театра «Артс» труппа Шекспировского театра показала премьеру пьесы Дэвида Радкина «К ночке». Действие открывалось идиллической картиной жизни сельскохозяйственных рабочих в глухом уголке современной Англии, а завершалось оргиастическим ритуальным убийством чужака, старого ирландца, совершаемым по всем законам первобытного жертвоприношения. К закланию старика так или иначе причастны все персонажи; только один из них, душевнобольной, недавно выпущенный из больницы, нерешительно пытается остановить убийц, но его никто не слушает. Голос христианского милосердия, исходящий из уст помешанного, вопль в пустыне, где всегда готовы ожить инстинкты первобытного племени. «Убийство тут было, есть и будет, и ничего нельзя с этим поделать», — меланхолически заключает автор статьи о пьесе и спектакле Том Милн21.
Не случайно в той же статье критик цитирует роман Голдинга «Повелитель мух». Тема пьес Уайтинга и Радкина, важный мотив «Войны Роз», разработан в книге Голдинга с философской глубиной и трагической болью. «Повелитель мух» — отнюдь не только плод философствования в юнгианском духе. Более всего это итог трагических прозрений военных лет. «В человеке больше зла, чем можно объяснить одним только воздействием социальных механизмов, — вот главный урок, что преподнесла война моему поколению. То, что творили нацисты, они творили потому, что какие-то определенные, заложенные в них возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными»22 — так комментировал сам Голдинг смысл своей жестокой притчи.
Питер Брук экранизировал «Повелителя мух» в 1963 году. Фильм был выпущен в мае, за два месяца до премьеры «Войны Роз». Работа над фильмом была одной из причин, почему Брук не смог стать сорежиссером «Войны Роз», несмотря на настойчивые просьбы Холла.
В финале книги Голдинга Ральф — единственный из волей случая заброшенных на необитаемый остров английских мальчишек, сумевший сохранить человеческий образ, спасается бегством от дикого племени, в которое обратились дети британской цивилизации, стремительно проделавшие обратную эволюцию. Раскрашенные дикари, размахивающие пиками, вот-вот настигнут его. Ральф падает, ожидая смертельного удара, а когда поднимает голову, видит над собой английского морского офицера в ослепительно белом мундире. «Из глаз Ральфа брызнули слезы, его трясло от рыданий. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И, стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша»23.
Ральф оплакивает утрату невинности и неведения, он скорбит над разверзшейся перед ним бездной человеческой природы, но сама эта скорбь, это сознание изначальной виновности уже есть акт высвобождения из-под власти греха, и потому печаль Ральфа, его слезы светлы.
Эта финальная нота чрезвычайно важна для уяснения интеллектуальной конструкции романа.
Что противостояло разрушительным силам, грозящим человеку извне и изнутри, в «Войне Роз» и в трилогии о Генрихах, развивавшей идеи первого цикла хроник?
Два мотива тут существенны для Питера Холла.
Один из них больше развит в трилогии «Генрих IV» и «Генрих V». Критиков, уже привыкших к лязгу и грохоту «военных» и «государственных» сцен, поражала странная тишина фальстафовских эпизодов. Вместо привычных бравурных красок и фарсового буйства толстого рыцаря и всей его забубенной ватаги — почти «чеховская интимная тонкость»24. Сцены в «Кабаньей голове» существовали, по свидетельству критика, «вне детерминистического взгляда на историю, управляющего другими частями цикла»25. Покинув пределы громыхающего мира большой истории, люди объединялись в маленькое сообщество, скрепленное душевными связями, — это давало им надежду на спасение.
Та же тема присутствовала в постановке самой шумной и «джингоистской» из хроник Шекспира — «Генрихе V». Король Генрих, которого играл Иен Холм, был «все что угодно, но не топочущий строитель империи»26. В знаменитой речи перед боем при Азинкуре «он обращался не к анонимной толпе, а к малой группе друзей»27.
Мотив малого человеческого сообщества, «горсточки счастливцев, братьев», способных противостоять ледяным вихрям истории, существен для поколения Холла — и в общечеловеческом, и в конкретно-театральном смысле. Он тоща твердо верил в способность театральной труппы стать «командой», разделяющей общие цели в жизни и искусстве, и умел создать на репетиции атмосферу равенства и вольных споров; пройдут годы, прежде чем актеры станут называть его репетиции «Лубянкой».
В «Войне Роз» шумному пиру торжествующей силы противостоял лишь один герой — «неуклюжий гигант с лицом подростка»28, осторожно ступавший по земле в своих огромных, тяжелых башмаках. Роль короля-мученика Генриха VI сыграл юный Дэвид Уорнер. На прослушивании поступавших в труппу актеров Холл сразу же его заметил и сказал: «Вот наш Генрих VI и Гамлет». Уорнер нес в спектакле один из ключевых мотивов режиссерского прочтения хроники, связанный с идеей святости и искупления. «Генрих — святой идиот Достоевского»29. Его выбор — не сопротивление, а отказ от участия. «Он встречал каждое несчастье с полным отсутствием протеста и негодования»30. Он из той элиты «посторонних», которая, как верил Колин Уилсон, один из идеологов гамлетизированного юношества тех лет, одна только и способна спасти от хаоса. Когда Глостер приходил, чтобы убить короля, он не встречал ни следа сопротивления: Генрих с какой-то покорной готовностью отдавал себя убийце. Умирая, он обменивался с ним прощальным поцелуем.
Неучастие, суть созданного Уорнером образа, было жизненной философией молодежи начала 60-х годов — то, что актер нес на сцене, получало горячий и сильный отклик в молодой части публики, предвещавший легендарный успех его Гамлета.
Жизненная позиция самого режиссера была совсем иной: Холл был борцом по натуре, любил и умел побеждать. Им владел азарт борьбы за первенство, за жизненное пространство в театре и за его пределами. Оттого ему близок был Пинтер, он, как никто, чувствовал драматургию его пьес, построенных на скрытой, но безжалостной схватке первичных инстинктов. Кто-то из критиков сказал, что лучше всего содержание пьес Пинтера можно передать с помощью терминов, взятых из зоологии. На репетициях пьес Пинтера Холл научился будить в актерах инстинкты обладания и уничтожения, а затем превращать эти инстинкты в материал искусства, укрощать и заковывать их в строго — до малейшего жеста и звука — выверенную партитуру спектакля. Но за музыкально стройной формой пинтеровских постановок Холла публика каждый раз чувствовала присутствие скрытой, но грозной опасности.
Постепенно режиссер стал тратить слишком много сил на завоевание жизненного пространства. Чем выше он поднимался по ступеням социальной иерархии, тем меньше вольного воздуха, дыхания искусства бывало в его постановках — история, много раз описанная в литературе, в том числе и в книгах ровесников Холла.
Но до того ему суждено еще было поставить «Гамлета». В юбилейном 1964 году, когда Стратфорд стал центром всемирных шекспировских торжеств, увенчанных двумя циклами хроник в постановке Холла и Бартона, на севере страны, в Глазго, актеры театра «Ситизен» сыграли премьеру новой пьесы Джонз Ардена «Последнее прости Армстронга». Герой пьесы, шотландский лэрд XVI века, неотесанный, необузданный, послушный лишь голосу грубых инстинктов, попадал в сети макиавеллистских расчетов абсолютистского государства. Его мощная и неуправляемая личность никак не вписывалась в логику рождавшейся политической системы, и шире — рационалистической цивилизации. Теплая, живая, грешная — потому и грешная, что живая, — человеческая плоть раздавливалась в мясорубке механической государственности. Пьеса отнюдь не идеализировала разбойника лэрда, с его дикарским анархизмом и звериной жестокостью, но противостоявшая ему победоносная сила внушала «шестидесятнику» Ардену настоящее отвращение: в абсолютистском централизме Стюартов и Тюдоров драматург находил знакомые черты бюрократического государства XX века. Пограничные войны Англии и Шотландии, политические коллизии, жертвой которых стал простодушный лэрд, плоды кабинетного хитроумия чиновников, которым принадлежит реальная власть, как во времена колетов и шляп с перьями, так и в эпоху черных котелков. О том, какими глазами Джон Арден смотрит на события далекой эпохи, можно судить уже по перечню действующих лиц, в котором фигурируют Первый шотландский комиссар, Второй шотландский комиссар, Первый английский комиссар, Второй английский комиссар, Секретарь шотландского комиссара, Секретарь английского комиссара, Советник лорда Джонстона, Советник лорда Максвелла и т.д.
В круге схожих идей двигалась режиссерская мысль Питера Холла, обдумывавшего постановку трагедии о принце Датском. Первое представление «Гамлета» состоялось в августе 1965 года, через месяц после того, как пьесу Ардена увидела английская публика, — труппа Национального театра показала «Последнее прости Армстронга» на Фестивальной сцене Чичестера. Не важно, знал ли тогда Холл пьесу, — сказалась общность, обусловленная духом времени и образом мыслей послевоенного поколения31, — шла ли речь о современном произведении или интерпретации классики. Уже в «Генрихе IV» и «Генрихе V» режиссера занимала неотвратимая логика исторического сюжета — рождения новой государственности из кровавого месива средневековых распрей. В отличие от своих предшественников, ставивших исторический цикл Шекспира на Фестивале Британии в 1951 году, Холл был более чем далек от официозных воззрений на английскую историю и на хроники Шекспира. Царство закона и порядка, в финале «Генриха IV» сменившее резню диких баронов и разудалую вольницу люмпенов, у Питера Холла оборачивалось ледяным миром государственного отчуждения, безжалостной и бесчеловечной политической машиной, в точности, как у Ардена и, решимся добавить, у Шекспира, — не на уровне сознательной исторической концепции, тут Бард был верным подданным Тюдоров, а на уровне гуманистической интуиции художника.
Когда сверкающий казенным великолепием новопомазанный монарх отталкивал старого друга Джека, былого сотоварища в разгульных забавах юных дней, Фальстаф — Хью Гриффит, оглушенный предательством, «неуклюже поднимался с колен, превращаясь вдруг в старика»32. Генрих являл в этой сцене не государственный разум, а всего лишь бездушие официального лица, положенное ему по должности.
Тема, намеченная в постановке хроник, получила предельно ясное выражение в «Гамлете» 1965 года.
Питер Холл как-то заметил, что «Гамлет» — пьеса, которую театр должен пересматривать каждые десять лет. Обратившись к трагедии Шекспира в середине 60-х годов, в дни расцвета брехтианства и документальной драмы, режиссер увидел в «Гамлете» произведение политическое по преимуществу. На стратфордских подмостках шекспировский Эльсинор представал не как готический замок со сводчатыми залами и гулкими переходами, но как казенное правительственное учреждение, солидный деловой центр: отполированный до блеска черный мрамор, огромные двери и плотные ковры, в которых глохнут шаги людей (художником спектакля был тот же Джон Бьюри). Дания оказывалась государством функционеров. «Это, — говорил Холл, — гигантская политическая машина; Клавдий — искусный политик, окруженный всеми своими советниками во главе с Полонием. У Полония свои секретари, а у секретарей свои собственные секретари»33. Холл почти дословно повторил перечень действующих лиц пьесы Ардена. Совпадение, конечно, не случайно. Автор «Последнего прости Армстронга» и режиссер «Гамлета» мыслили и говорили на одном и том же жестком политизированном языке 60-х годов.
Сцену при дворе короля Клавдия критик назвал «собранием бизнесменов во главе с новым председателем совета, не слишком разборчивым в средствах»34. Клавдий — Брюстер Мэзон — слишком деловой человек и профессиональный политик, чтобы испытывать раскаяние. Он покидает представление «Убийства Гонзаго» не мучимый совестью, а возмущенный неприличной выходкой мальчишки-принца, который вызывает у него только презрение и брезгливость. У Клавдия в сцене «мышеловки» — «гнев политика, не желающего выглядеть дураком»35. Дураков при датском дворе нет. В спектакле Холла Полоний, седоватый господин с респектабельной бородкой, вовсе не был похож на суетливого шута. Впрочем, он разыгрывал шута, когда это было ему выгодно, например в разговоре с Гамлетом. Репетируя роль Полония, актер Тони Черч видел перед собой два прототипа — знаменитого елизаветинского вельможу лорда Берли и умнейшего из современных политиков Гарольда Макмиллана. Первый чиновник Дании, виртуоз политической интриги, строил далеко идущие планы. Он собирался сделать дочь датской королевой и с помощью сложной системы запретов и поощрений искусно сводил ее с принцем, чего ни она, ни Гамлет не понимают.
Критики замечали, что Полоний казался не отцом, а дедушкой Офелии. Это объяснялось не возрастом актера (Тони Черч был ровесником Холла и учился одновременно с ним в Кембридже), но последовательно осуществленной режиссерской идеей — стремлением подчеркнуть разрыв между поколениями, пропасть, разделявшую отцов и детей.
Гамлет явился в этот мир казенной благоустроенности, безукоризненных манер и безжалостных политических манипуляций отнюдь не из средневекового Виттенберга, но из аудиторий современного Оксфорда, Кембриджа или какого-нибудь нового красно-кирпичного университета. Длинный, тощий, неловкий мальчик в огромных очках, с копной соломенных волос, причесанных под Битлз, одетый в потертый черный макинтош, с красным шарфом, болтающимся вокруг тонкой шеи, — таков был принц Датский, фотографически точный портрет постосборновской молодежи. Ян Котт, чьи идеи повлияли и на эту постановку Холла, писал под впечатлением игры Дэвида Уорнера: «В Кембридже я встречал много старшекурсников, в точности похожих на этого Гамлета даже физически. Они не королевские дети, но сознают, что унаследовали мировые проблемы. Для меня, иностранца, было удивительно наблюдать этих мальчиков, таких высоких, совсем некрасивых, любящих сидеть на полу, носить одежду, которая им велика, решившихся во всем быть неформальными»36.
В другой своей статье о «Гамлете», той, под воздействием которой находился Холл, польский критик приводил слова Выспянского о принце Датском: «Бедный мальчик с книгой в руках» — и добавлял, что весь вопрос в том, какие книги держат в руках Гамлеты разных эпох и поколений. Во времена Шекспира принц, без сомнения, читал Монтеня, во времена романтиков — «Вертера», в эпоху Выспянского — Ницше; продолжая игру, можно сказать, что Гамлет Оливье изучал Фрейда, Гамлет Барро — Сартра, Гамлет Высоцкого — стихи самого Высоцкого. Бывали, впрочем, Гамлеты, ничего, кроме газет, не читавшие.
Что же читал Гамлет Дэвида Уорнера, какую книгу держал он в руках, потешаясь над мнимой глупостью старшего поколения? Критики предположили, что это был том Маркузе, одного из кумиров западной молодежи 60-х годов, которому было суждено стать главным идеологом леворадикальной революции 1968 года. Если критики не ошиблись и в руках у этого английского Гамлета 1965 года был действительно «Эрос и цивилизация» или «Одномерный человек», то он сделал из этих книг совсем иные выводы, нежели многие его ровесники на континенте. «Великий Отказ» он понял как отказ от всякого участия в жизни мира отцов, отравленного политикой, которая всегда есть ложь. «Этого Гамлета, — писал Ян Котт, — больше нельзя отнести к «рассерженным молодым людям», он остается невовлеченным так долго, как только может»37.
Сцены из спектакля
В сцене с сыном огромный Призрак (его изображала гигантская кукла в колышущихся одеждах) угрожающе нависал над Гамлетом, требуя и повелевая. Дух принадлежал к властительному миру отцов, его веление толкало Гамлета к действию, которое с неотвратимостью влекло за собой — Гамлет твердо это знал — ложь и кровь, ибо в Эльсиноре человеческое деяние узурпировано мироустройством и действующий Гамлет принадлежит уже не себе, а миру, который ему ненавистен.
Вот почему Гамлет — Уорнер отказывался исполнять волю отца: таков был его сознательный выбор. Его апатия оказывалась не столько болезненным состоянием души, сколько философией жизни.
«В последние пятнадцать лет на Западе, — говорил Питер Холл, комментируя спектакль, — молодежь, особенно интеллигентная, теряет импульсы, которые были у всех поколений молодежи. Можно участвовать в марше протеста против атомной бомбы, а можно не участвовать. Можно переспать со всеми знакомыми девицами, но это необязательно. Можно принимать наркотики, можно обойтись без этого. Есть чувство, что все — один черт, раз над нами грибообразное облако. И политика — это игра и ложь в нашей стране или в диалоге Запада с Востоком, который тянется непрерывно без всякого толку. Эта отрицающая реакция на все внушает глубокий страх»38.
Холл размышляет о молодежи, наблюдая ее со стороны, Дэвид Уорнер сам был частью поколения детей-цветов, лозунгом которого было: находиться вне общества, созданного отцами, отрясти со своих ног прах мира политики, какой бы она ни была, левой или правой.
Для них сказать «нет» истеблишменту означало отказаться играть по его правилам, в том числе и по правилам борьбы с ним. Уорнер, один из «красно-кирпичных» актеров 60-х годов, говорил с молодой частью публики на ее собственном языке.
Когда этот долговязый принц-студент с угрюмым злорадством находил очередное подтверждение гротескной бессмысленности Эльсинорского существования, молодежь, заполнявшая зал Королевского Шекспировского театра, смотрела на мир его глазами. Когда он медленно, с нарочитой, преувеличенной отчетливостью произносил свои монологи, пытаясь проверить, взвесить, испытать значение каждого слова, внести смысл и логическую ясность в мучивший его душевный хаос, молодой зал узнавал в этом Гамлете себя и отвечал ему пылким восторгом, обнаруживать который вовсе не было в его привычках. Уорнер мгновенно стал популярен, как «Битлы» и Мик Джаггер. Толпы школьников и студентов ждали его у артистического входа. Длинные очереди, состоявшие сплошь из молодежи, опоясывали театр, ночи напролет выстаивая в надежде получить билет на «Гамлета», пьесу того самого медоточивого классика, который со школьных времен казался им образцом стариковского занудства.
Можно было упрекать — и многие это делали — Холла и его актеров в модернизации, но редко когда прежде, по крайней мере в Англии, театр Шекспира с такой прямотой и политической страстностью кричал о тупиках и надеждах своего времени. Искусство, говорившее о человеке, который выбрал неучастие в недостойной жизни, тем не менее в жизни участвовало, делая все, что от него зависело, чтобы она, эта жизнь, стала чуть более достойной «красы Вселенной и венца всего живущего».
В конце, перед лицом близкой смерти, Гамлета вдруг охватывала лихорадка действия. С невесть откуда взявшейся жестокостью он вцеплялся в горло Лаэрту и мстительно выливал яд в ухо Клавдию: пусть убийца умрет той же смертью, что и его жертва.
«Король Лир». Королевский Шекспировский театр. 1962
Вспышка болезненной энергии тут же проходила. Гамлет — Уорнер умирал улыбаясь. Была ли то улыбка облегчения — сброшена наконец ноша долга — или насмешка над собой, принявшим напоследок условия игры, которые так долго и бесполезно старались ему навязать? Критики по-разному трактовали эту странную, какую-то феллиниевскую улыбку Гамлета. В любом случае он встречал смерть как «исход желаннейший».
В финале звучали сиплые трубы Фортинбраса. С приходом новой власти в Дании мало что менялось. Рядом с юными варварами, сменившими старых политических лис, вставало новое поколение «секретарей». Молодой, не старше Гамлета, Озрик в последних сценах занимал место покойного Полония. Даже костюм его был точной копией Полониева. Как сказал по этому поводу Тони Черч, «мир Полония сохранялся»39.
«Не знаю, как вы, — заметил Питер Холл, — но я бы не слишком хотел жить в Дании при Фортинбрасе»40.
«Гамлет» и «Война Роз» стали кульминацией всей жизни Питера Холла, плодом счастливого взлета его искусства, сосредоточившего в себе важнейшие общественные влияния и театральные идеи 60-х годов. В 1965 году имя Холла было таким же символом нового поколения английской сцены, как имя открытого им актера.
Дэвид Уорнер пережил тогда дни национальной славы. Такой любви англичан, особенно молодежи, не знал ни один актер драматического театра, разве что Лоренс Оливье в конце 30-х и в 40-е годы. В героической победоносности стиля Оливье выразил себя, дух предвоенных и военных лет; в сценических образах Уорнера, неотделимых от склада его собственной личности, запечатлен один момент в истории душевной смуты его современников, переходный момент между двумя бунтами — истерическими инвективами «рассерженных» и разрушительным активизмом молодежных волнений 1968 года, которые не могли не отозваться в «спокойной» Англии. Это состояние «экзистенциальной паники» и обессиливающей апатии, определившее духовную жизнь многих молодых людей середины 60-х годов, сравнительно быстро миновало, а с ним «ушел поезд» Дэвида Уорнера, развеялась в пыль его невиданная слава. Актер сразу как-то потускнел и, в сущности, исчез из большой истории театра и кино, хотя и на сцене, и на экране он продолжал появляться. У него не было ни силы таланта, ни мощного профессионализма Лоренса Оливье, способного мгновенно находить общий язык с новыми поколениями и решительно менять строй своего искусства. В исторической памяти британской сцены Дэвид Уорнер остался как сверхъяркая звезда, вспыхнувшая в начале 60-х годов и почти сразу же угасшая: жизни ей было отпущено всего-то три года. Такое нередко бывает на эстраде, но иногда случается и на сцене драматической.
В противоположность Уорнеру Питер Холл только начинал тогда свой путь в искусстве. Многое, очень многое ждало его впереди — десятки спектаклей на драматической и оперной сцене в Нью-Йорке, Байрейте, Глайндборне, в лондонском Национальном театре, которым он руководил пятнадцать лет, и в собственной труппе, которую он создал, покинув воздвигнутое у моста Ватерлоо гигантское здание Королевского Национального театра с его тремя сценами. Он будет ставить Эсхила, Чехова, Пинтера, Моцарта, Вагнера и, разумеется, Шекспира. В его спектаклях будут играть Джон Гилгуд, Ральф Ричардсон, Пол Скофилд, Джуди Денч, Иен Маккеллен, Дастин Хоффман.
Но все это будет уже не в Стратфорде. Холл, создатель новой эпохи в истории Шекспировского театра, оставит Стратфорд всего через три года после триумфа «Гамлета» и никогда туда более не вернется.
Причиной его ухода был не полупровал «Макбета» со Скофилдом (1967), как полагали некоторые недоумевавшие критики. Причиной не была и болезнь, развившаяся у него после невероятного напряжения всех этих лет в Стратфорде.
Как обычно, он принял единственно верное решение. Он ушел вовремя. В его жизни — и в истории английского театра — закончился важный и чрезвычайно цельный период. Задачи, которые он ставил перед собой в Стратфорде, были выполнены. Он чувствовал, что исчерпан был круг театральных идей, родившихся на стратфордской сцене в начале десятилетия. Один из творцов шекспировского стиля 60-х годов Питер Брук стремительно двигался дальше — к театру жестокости, безжалостным гротескам «Марата-Сада» и антимилитаристическому хэпенингу. Можно ли было еще несколько лет назад представить себе все это на подмостках Шекспировского театра?
Умонастроение радикальной молодежи, в которой Холл готов был видеть если не свою социальную опору, то уж, во всяком случае, свою публику, быстро эволюционировало в сторону политических идей самого крайнего свойства.
Ни первое, ни второе, ни театральный авангард, ни политический экстремизм не привлекали Холла. Он всегда, как мы знаем, стремился не разрушить, а обновить традицию — на этом строилась и его внутритеатральная политика, и его режиссерская эстетика. «Гамлет» был в его глазах крайним пределом современной свободы интерпретации, за которым начинался режиссерский произвол.
Лир — П. Скофилд. Глостер — А. Уэбб
Теперь, в конце 60-х и в 70-е годы, он увидел свой долг в том, чтобы уберечь театральную традицию от опасных посягательств сверхконцептуалистской режиссуры, защитить творения классиков от модернизирующих толкований, выступить на стороне культуры, разрушаемой, как ему казалось, всякого рода экстремистами.
Постепенно укреплявшийся в нем эстетический, а затем и политический консерватизм (отнюдь не в нашем, бранном, а в британском, вполне положительном значении слова), столь помогавший его «пути наверх», был вполне искренней, более того — по-своему благородной позицией. Она составила основу его программы в Национальном театре, и Питер Холл стремился последовательно ее осуществлять.
Когда в 1976 году Холл репетировал в Национальном театре своего второго «Гамлета», он говорил актерам, что их и его, режиссера, задача состоит в том, чтобы смиренно служить классическому тексту, безропотно «умереть» в нем, отвергнув любого свойства модернизацию, стремиться передать всю полноту содержания мирового шедевра.
Против всего этого нечего было возразить, если бы только в результате долгих и честных усилий на сцене Национального театра не появилось произведение тяжеловесное, бесформенное, инертное, должно быть, милое сердцу школьных педантов, но наводившее тоску на зрителей, которые при всем почтении к «настоящему», «неискаженному» Шекспиру перестали на него ходить.
Было бы, разумеется, несправедливо так уж прямо связывать призывы хранить верность классику с тем, что Брук называл «мертвым театром». И все же неудача опыта была предрешена. Она с ясностью показала иллюзорность надежд представить классическое творение «как оно есть», «как оно написано». Намеренный — из самых лучших побуждений — отказ от интерпретации тоже есть интерпретация, обреченная при этом в современном театре на эстетическое бесплодие.
В одной статье начала 60-х годов Холл рассказал, как однажды в Стратфорде к нему подошла некая старая леди и сказала следующее: «Мне ужасно интересны ваши попытки сделать Шекспира живым для нашего времени, но не думаете ли вы, что вам следует время от времени устраивать специальные представления для колледжей и школ, чтобы показывать то, что Шекспир на самом деле хотел сказать?» «А что же Шекспир на самом деле хотел сказать?» — спросил Холл. «Все мы это знаем, не так ли?» — не без раздражения возразила старая леди41.
В 1963 году Холл иронизирует над простодушием старой леди, в 1976-м он, по существу, готов разделить ее точку зрения: эволюция, не столь уж нехарактерная для постаревших «молодых львов» 60-х годов.
Конечно, провалов, подобных «Гамлету» 1976 года, у Питера Холла было немного. Репутация профессионала высокой пробы сохранялась за ним на протяжении всей его жизни в театре.
Но никогда режиссерские труды Холла не значили так много для современной культуры и современной жизни, как его шекспировские постановки 60-х годов, открывшие так много важного людям, теснившимся в темноте Стратфордского театра, — не только в них самих, но и в классике, величие которого измеряется способностью быть зеркалом движущегося времени.
Вот почему достигший всех мыслимых почестей и наград, давно снискавший всемирную славу мастер так часто — об этом свидетельствуют его опубликованные дневники — возвращается мыслью к Стратфорду начала 60-х годов. Возвращение это вызвано не одной ностальгией по ушедшей молодости, но сознанием непреложного факта: то, ради чего он, Питер Холл, пришел в искусство, — свою, громко говоря, историческую миссию, он исполнил именно тогда, в 1963 и 1965 годах.
Примечания
1. Olivier L. On acting. L., 1986, p. 165.
2. Tynan Kathleen. Kenneth Tynan. L., 1988, p. 75. Тайнен слегка лукавил. Он действительно был рожден не в браке, но отец его был очень состоятельный бирмингемский коммерсант.
3. Addenbrooke D. Royal Shakespeare Company. 1974, p. 24.
4. Addenbrooke D., p. 30.
5. Последний скоро покинул Стратфорд: он ушел в «Ройал Корт», чтобы начать обновление английской сцены.
6. Tynan K. A View on the English Stage. L., 1975, p. 264.
7. Wells St. Royal Shakespeare. Manch., 1977, p. 12.
8. Марков П.А. Сочинения. Т. 4. М., 1977, с. 324.
9. Не оттого ли, что здесь, в огромных старомодных комнатах, среди старинных столов и кресел, они решили навсегда расстаться с викторианским миром Мемориального театра и с надеждой и тревогой встретить «новую жизнь»?
10. Помимо прочего, критики упрекали его за то, что он ввел в заблуждение школьников: посмотрев спектакль, они будут считать, что у Шекспира есть пьеса «Эдуард IV».
11. Джон Бьюри рассказывал о том, как он вместе с радиотехниками искал металлический звук, которым должны отзываться конструкции, сделанные отнюдь не из стали. Этим металлическим резонансом гудело все пространство сцены.
12. «The Daily Mail». 1963. 21 Aug.
13. «The New Statesman», 1964, 7 Aug.
14. «Stratford-upon-Avon Herald», 1963, 23 Aug.
15. «The Financial Times», 1963, 18 Aug.
16. «The Sunday Telegraph», 1963, 12 June.
17. «The Times», 1964, 17 April.
18. «The Daily Mail», 1963, 18 July.
19. См. интервью с Питером Холлом. — «Англия», 1963, 4, с. 36, 38.
20. «The Birmingham Post». 1963, 18 July.
21. New Theatre Voices of the Fifties and Sixties. L., 1981. p. 237.
22. Голдинг У. «Шпиль» и другие повести. М., 1981, с. 11.
23. Голдинг У. «Шпиль» и другие повести, с. 166.
24. «The Times», 1964, 17 April.
25. Ibid., 6 April.
26. Ibid.
27. «The Sunday Telegraph», 1963, 12 June.
28. «The Sunday Telegraph», 1963, 12 June.
29. Ibid.
30. «The Sunday Times», 1963, 21 July.
31. Арден родился в том же 1930 году, что и Холл.
32. «The Birmingham Post», 1964, 17 April.
33. Addenbrooke D. Royal Shakespeare Company, p. 129. Никто из писавших о «Гамлете» 1965 года не вспомнил о «Гамлете» 1925 года, поставленном Б. Джексоном и Эйлифом. Сходство образного строя, стиля и проблематики постановок было вызвано близостью обоих послевоенных поколений.
34. «Stage and TV Today», 1965, 30 Aug.
35. «Sunday Times», 1965, 22 Aug.
36. Kott J. Shakespeare Our Contemporary. L., 1965, p. 299.
37. Kott J. Shakespeare Our Contemporary, p. 299.
38. Theatre at Work. L.. 1967. p. 163.
39. Players of Shakespeare. I. Cambridge, 1985, p. 108.
40. Theatre at Work, p. 163.
41. Royal Shakespeare Theatre Company. L., 1964, p. 41.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |