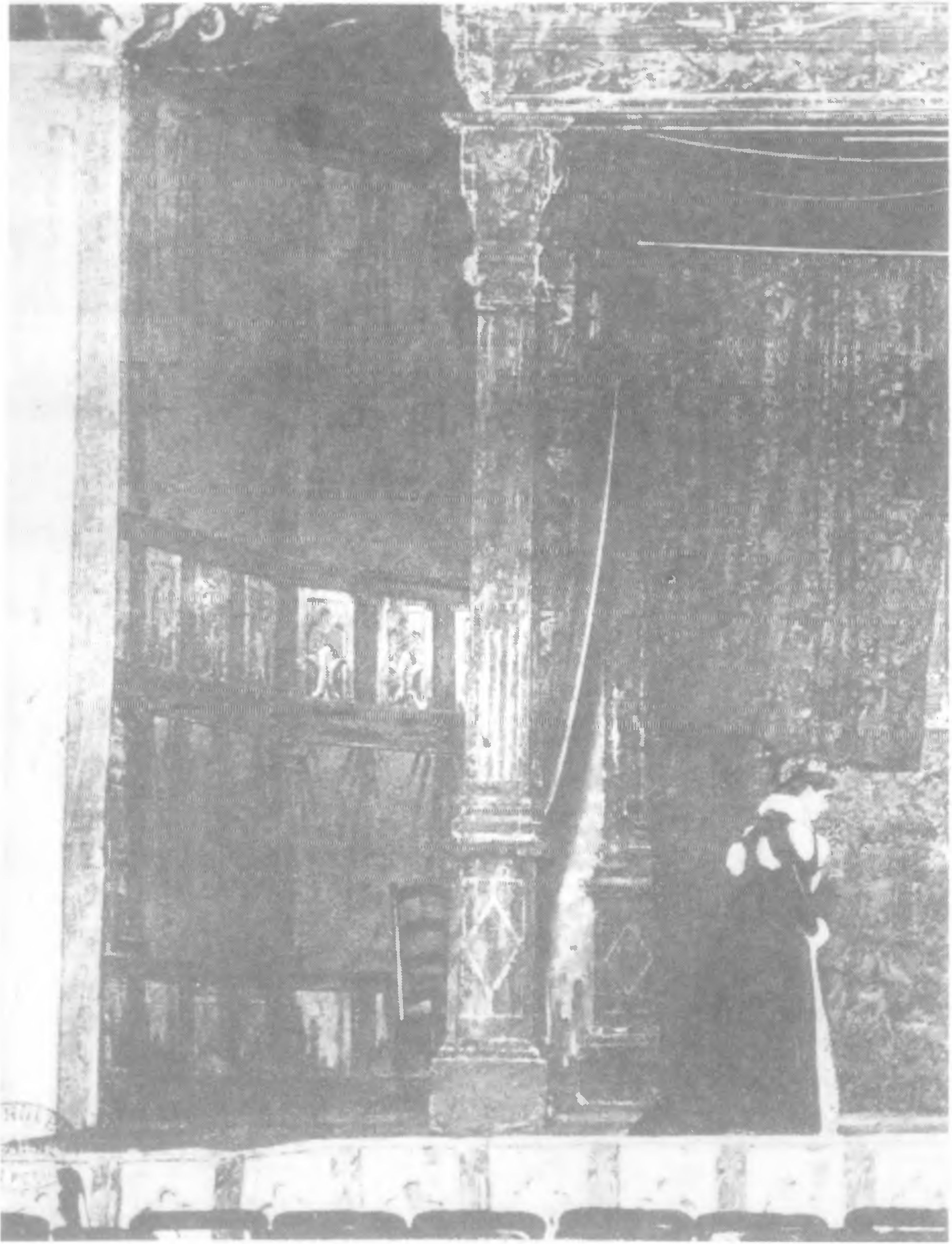Разделы
Счетчики
«Пиршество для глаз» и Уильям Поул
Рецензенты и мемуаристы, писавшие об искусстве Эллен Терри, высказав свои чувства в двух-трех восторженных эпитетах — «благородная», «пленительная», «поэтическая», — обыкновенно этим и ограничивались к досаде позднейших историков театра, желавших понять, как актриса толковала ту или иную роль. Зато, когда речь заходила о том, во что Эллен Терри была одета, критики со знанием дела и энтузиазмом, достойным модельеров или авторов светской хроники, не скупились на подробности. «Сияюще прекрасная Порция в расшитом золотом атласе», «залитая светом юпитера прелестная Иордис, закутанная в пушистые белые меха», платье «оттенка цветущего миндаля» и т.д. ...Когда сама Терри в воспоминаниях детально описывает свои театральные костюмы, это можно отнести за счет любви к туалетам, естественной для женщины и актрисы. Однако совершенно в том же духе пишут критики-мужчины не об одной Терри, но, скажем, и об Ирвинге или Форбс-Робертсоне. Рецензии тех лет полны красочных описаний мебели, тканей, посуды. Гобелены, газовые полотнища, витражи, драпировки, кресла, чаши. «Ступени желтого мрамора», «шелковые знамена», «мягкие вышитые ковры», «орнаментированная крыша, поддерживаемая массивными колоннами», «железные фигурные ворота», «резные дубовые скамьи», «оружие, игрушки, фонари, стулья, кресла, украшения стола» (все это из одной рецензии на спектакль «Лицеума» «Много шума из ничего»)1. «Легкий налет ориентализма в одежде менестрелей», «элемент славянской дикости во внешности стражников», «палладианские дворцы Орсино и Оливии» («Двенадцатая ночь»)2. Рецензии похожи на каталоги фирм, поставляющих модную обстановку для особняков. Сцена перенасыщена предметами роскоши, она превращается в царство вещей.
Театр в данном случае лишь сколок жизни. «Достаточно взглянуть на фотографии интерьеров богатых домов того времени, чтобы увидеть «идеал» жизни, порожденный веком веры в «материальный прогресс». Поражает обилие вещей, которыми окружает себя человек, и чем их больше, чем теснее они обступают его, тем лучше кажется ему жизнь. Красота понимается как роскошь. Плюшевые обивки, золотые инкрустации, вычурное литье всевозможных подставок, статуэток, приборов — все призвано заполнить пространство, не оставить в нем свободного места»3.
Вещное, материальное начало уверенно господствует на подмостках, все равно, идет ли речь об утонченно-прерафаэлитских или историко-бытовых спектаклях, о декорациях Берн-Джонса или Альма-Тадемы, о режиссуре Ирвинга, Бенкрофта или Бирбома-Три, о постановках Шекспира или современных салонных драматургов. Театральные предприниматели, финансировавшие постановки салонных комедий, не жалели денег на то, чтобы интерьер на сцене украшали портьеры из самых дорогих материй, чай подавали в чашках настоящего саксонского фарфора, а вместо бутафорских картин на сценах висели подлинники.
Эстетический бунт против «тяжелого материализма эпохи» во имя высшей красоты, в сущности, не так радикально порвал с духом времени, как иногда думают. Царство вещей сохранилось, изменился лишь их облик. Произведения Уайльда переполнены вещами, но вещами прямо экзотическими, эстетизированными. Все эти опалы и сапфиры, хризолиты, бериллы, хризопразы, сардониксы, гиацинты, халцедоны, лунные камни, карбункулы, которые рассыпаны на страницах «Саломеи», «Портрета Дориана Грея», сказок, все эти бархаты, вышивки, драпировки, вазы, «зеленые бархатные куртки с рукавами цвета корицы, плащи с капюшоном на темно-красной подкладке, крохотные туфельки с большими розовыми бантами», «газовый веер, розовый с жемчугом», «хрустальные чаши из ясписа», «тонкие блюдца из слоновой кости» — в конце концов, тоже своего рода инвентарный перечень вещей как нельзя более дорогих и изысканных4. Уайльд сочиняет гимн археологическому подходу к постановкам Шекспира («Истина масок»), позволяющему воссоздать на сцене эстетическое совершенство ренессансной жизни, домов, мебели, одежды, причесок. Он говорит о чрезвычайной важности всякой детали костюма шекспировских героев. Они начинают казаться в «Истине масок» манекенами, единственная цель существования которых в том, чтобы демонстрировать роскошь одежд. Разумеется, шекспировские костюмы и весь облик Ренессанса Уайльд последовательно и нисколько того не скрывая стилизует в духе новейших эстетических представлений — какая уж тут археология. Лаконизм елизаветинской сцены кажется ему свидетельством бедности: смешно следовать убожеству площадного примитива, имея в распоряжении все средства современной театральной живописи. Призывы восстановить сцену шекспировских времен он готов истолковать как проявление буржуазности и закоренелого пуританизма, как продолжение «ожесточенного бунта средних классов против красоты в XVII веке»5.
Вещи на сцене, доподлинные или преображенные холодной фантазией эстета, справляли свой праздник, насыщенный громкими красками, опьяняющий экзотикой, полный чувственных излишеств, опасных для духовного предназначения театра. Они словно вырвались из подчинения у человека и утверждали теперь свою власть над ним. Сила, которую забирает на сцене мертвая материя, — следствие кризиса старого театра, замкнувшегося теперь в самоуверенном и самодовлеющем эстетизме. Пиршество красок, звуков и движений только скрывает отсутствие жизни.
В конце XIX и начале XX века все чаще начинали раздаваться голоса, упрекающие театр в нравственной небезупречности, в том, что отпущенные ему мощные средства воздействия на коллективную психику он использует без должного сознания ответственности, погружая людей в наркотический дурман, в дионисийское распутство чувств. Театр обвиняют в избыточной чувственности столь разные люди, как Томас Манн (1908) и Бернард Шоу (1900).
Немецкий писатель говорит о театре как о мире особом, чуждом ему, греховном, притягательном и ничем не сообщающемся со сферой духовной жизни, запечатленной в литературном слове. «Жажда экзотики, — вспоминает Т. Манн о своих детских театральных впечатлениях, — заставляла нас мечтать и молить об этом, о чудесном дурмане, мы любили его, о, еще бы, мы пили его, мы хмелели и мы находили в нем забвение. Но был ли он чистой и светлой влагой, в которой мы так нуждались?»6. Опасность хмельного экстаза заключена более всего в «вещном» театре, построенном на «реальном обращении к физическим чувствам»: Т. Манн вспоминает «Валленштейна» у мейнингенцев с «настоящими» деревьями, мхом, светляками, «потолками» из листвы. Театр условный, пользующийся языком намеков, в глазах писателя предпочтительнее, ибо он «меньше возбуждает чувственность» и тем самым «больше способен оказать чистое художественное воздействие»7.
Для Томаса Манна моральная подозрительность «чувственной природы» театра стократ усугублена трагической виной эстетизма, в которой пребывает современная ему европейская культура. Она предала интересы духа, что не замедлит отозваться возмездием, носителем которого будет новый Савонарола, меч Господень.
Для Бернарда Шоу с его вполне английским морализмом безудержная чувственность — грех поздневикторианской сцены, отворотившейся от жизни современных общественных идей, не желающей исполнять назначенную театру просветительскую и жизнестроительную миссию. «Пышные сценические ритуалы» Генри Ирвинга вытесняли со сцены драматическое слово — носителя мысли. «Подчинять интеллектуальную деятельность и честность чувственным экстазам — нет, это никуда не годится!»8 Настало время покончить с господством театральных бутафоров и машинистов, с вульгарной материальностью сценического зрелища.
Думая о средствах исцеления современного театра от «чувственного экстаза» живописности, Шоу обращает свой взор в историю, в XVII век: «Я призываю пуритан спасти английский театр, как они спасли его однажды, когда он в глупой погоне за удовольствиями погрузился в светскую пустоту и безнравственность»9.
Итак, Томас Манн, содрогаясь за судьбу культуры, хотя и с сознанием неотвратимости и справедливости исхода, ждет явления Савонаролы.
Шоу зовет пуритан и ждет, что они исцелят английский театр, а может быть и всю Англию, от тяжкого недуга викторианства.
Однако викторианский культ материальных ценностей, мещанское обожествление фактов, демонстративный эмпиризм практического мышления исторически восходят в последнем счете как раз к пуританскому утилитаризму, к житейской философии деловых людей XVII века. Восстание против бесчеловечности и уродства механической цивилизации, против духовной диктатуры «миссис Гранди» в эстетическом движении XIX века у Рёскина, Морриса, прерафаэлитов, как в религиозном «оксфордском» движении, выразилось в обращении к добуржуазным традициям, в поэтизации позднесредневековой и раннеренессансной католической культуры, которая играла роль «эллинства», противостоящего протестантски-буржуазному назарейству, «религии поэтов» против «религии купцов»10.
Поэтому человек, который попытался осуществить то, что Шоу называл «пуританской революцией» в театре, был адептом Морриса и прерафаэлитов. Пуритане когда-то во имя высших моральных целей разрушили елизаветинский театр. Новый «пуританин» (в том почти фигуральном смысле, который вкладывал в это слово Шоу) во имя обновления театра, а тем самым, как он верил, и человечества решился воскресить шекспировскую сцену, противопоставив ее викторианской «тирании визуальных искусств». Уильям Поул11 если у нас и известен, то по преимуществу как своего рода археолог от театра, на основании научных данных создавший реконструкцию елизаветинской сцены и спектакля, — репутация не самая выгодная для художника и не самая справедливая для человека, которого Тайрон Гатри назвал «основателем шекспировской режиссуры»12. Тем не менее деятельность Поула действительно началась в духе вполне академическом.
В 1881 году шекспиролог Уильям Григе опубликовал факсимиле двух первых изданий «Гамлета». Уильям Поул, никому не известный актер и руководитель крошечной труппы «Елизаветинцы», разъезжавшей летом по стране с костюмированными чтениями из Шекспира, сделал на заседании Нового Шекспировского общества доклад о сценической стороне «пиратского» кварто. Он пытался доказать, что по ошибкам и отклонениям от авторского текста, которые допустил неведомый «пират», тайно записывавший его во время представления, можно узнать кое-что о том, как шел «Гамлет» на сцене «Глобуса».
Не так существенно, подтвердила ли наука XX века все догадки Поула, важнее то, что с самых первых своих шагов Поул исходил из неразрывности единства между текстом шекспировской пьесы и сценой, для которой она предназначалась, а это составляло одну из центральных идей современной шекспирологии.
Естественно, что он, человек театра, захотел проверить свои идеи на практике, воспроизвести на сцене первое представление великой трагедии. Поул обратился к Ф. Фернивеллу, президенту Нового Шекспировского общества, с предложением поставить для членов общества первое кварто «Гамлета». 16 апреля 1881 года на задрапированных занавесом подмостках Сент-Джордж-холла спектакль был сыгран в полном соответствии с тем, как тогда представляли себе устройство шекспировской сцены и ход спектакля в «Глобусе». Почти все актеры были любителями, сам Поул играл Гамлета — без всякого успеха. (У. Поул был актером посредственным, вероятно, не лучше, чем В. Шекспир.) Шума спектакль не вызвал никакого. Журнал «Академия» отозвался благосклонно, но отнесся к «Гамлету» 1881 года как к чисто академическому опыту, каковым он и был.
Тем не менее скромное представление в Сент-Джордж-холле открыло собой целое театральное движение, в различных модификациях развивающееся и поныне. «Елизаветинское возрождение» началось.
У Поула, впрочем, были предшественники. К театру эпохи Шекспира самый пристальный интерес питали немецкие романтики, он казался им образцом сценического искусства, обращенного к поэтической фантазии, идеальной сферой игры и эстетической свободы. Людвиг Тик в статье «Бен Джонсон и его школа», а позднее в новелле «Юный столяр» (1836) попытался дать описание шекспировской сцены, а в 1843 году поставил в Потсдамском дворце «Сон в летнюю ночь», соорудив разделенные на три части подмостки, которые казались тогда точным подобием елизаветинской сцены. За три года до этого Карл Иммерман с группой любителей реконструировал шекспировский спектакль, пользуясь описаниями Тика.
Об этих опытах Поул знал и изучал их; впрочем, полвека упорных трудов английских и немецких историков театра существенно изменили представление о елизаветинском театре. Но об одном своем предшественнике Поул и не подозревал, хотя это был его соотечественник.
В 1844 году (через год после потсдамской постановки Тика и, вероятно, под ее воздействием) англичанин Бенджамен Уэбстер поставил в лондонском театре «Хэймаркет» «Укрощение строптивой». Впервые с шекспировских времен в комедии был восстановлен пролог, его играли на обычной сцене-коробке перед традиционной декорацией, обозначавшей гостиницу. Но пьеса о Петруччио и Катарине, которую бродячие актеры показывают Сляю, разыгрывалась на простых дощатых подмостках, имитировавших шекспировскую сцену. Все оформление состояло из двух ширм и двух занавесей. Перемена места действия указывалась сменой занавесей; к ширмам крепились плакаты: «Падуя. Улица», «Дом Петруччио» и т.д. Рецензент «Таймса» с восторгом и удивлением писал о том, что «публика совсем не чувствовала отсутствия декораций»13.
Этот эксперимент входил в столь резкое противоречие со всем духом английского театра времен Макреди и Чарлза Кина, что ему суждено было остаться в одиночестве и полной безвестности, пока историки театра в XX веке не разыскали его следы. Как обычно, хорошо забытое старое вспомнили тогда, когда сами открыли новое. О спектакле 1844 года узнали в 10-е годы, когда «елизаветинское возрождение», начатое Поулом, переживало свой высший взлет.
Когда Уильям Поул решился бросить вызов викторианскому театру, у него не было ни труппы14, ни сцены, ни денег (впрочем, ни одно, ни другое, ни третье у него так никогда и не появилось, зато появились ученики и единомышленники). Он испытывал настоящую ненависть к современной сцене — к роскоши и бутафорской мишуре зрелищ, поставленных последователями Чарлза Кина. Позже, в своей книге «Шекспир в театре», подводя итоги тридцатилетнего театрального опыта, он давал иронические советы, как ставить Шекспира в духе великих традиций — от Ч. Кина до Г. Бирбома-Три: «Главное — показать страну, где происходит действие. Пошлите художников, актеров изучать страну, людей, зарисовывать улицы и пейзажи. Затем, когда вы, платя большие деньги, собрали наконец эту интересную информацию о стране, о которой Шекспир знать ничего не знал, включайте все эти сведения в свою постановку в связи с действием пьесы или без всякой связи с ним. Заполняйте сцену толпами, вставляйте песни и хоры до тех пор, пока пьеса не перестанет быть понятной»15.
Подобно Шоу, он не выносил Ирвинга и его «Лицеум» и так же, как Шоу, не находил нужным это скрывать. Когда «Лицеум» находился на вершине процветания, а Ирвингу оставалось всего несколько лет до того, чтобы стать сэром Генри Ирвингом, Поул позволил себе заявить: если бы Ирвинг был в моей труппе, он не получал бы и пяти фунтов в неделю.
За его гневом, за его бунтом — истинная любовь к Шекспиру, притом лишенная викторианских сантиментов по адресу «эйвонского лебедя». Он верил, что пьесы Шекспира хороши сами по себе и не нуждаются в украшениях, обработках и перестановках. Он хотел вернуть на сцену шекспировское слово, шекспировскую поэзию, шекспировскую условность. Он считал, что это невозможно сделать в условиях традиционной сцены-коробки, с системой кулис, переменами декораций, антрактами, занавесом. «На пьесу Шекспира, — писал он, — занавес падает как нож гильотины»16. Он хотел увидеть пьесы Шекспира такими, какими их видел сам Шекспир. Он был убежден, что Шекспир, человек театра, писал не для потомков, а для своих современников, вельмож и подмастерьев, не для некоего грядущего театра, вооруженного сложной совершенной техникой, а для голых подмостков «Глобуса», и, стало быть, только возрожденная елизаветинская сцена способна показать миру Шекспира, каким он на самом деле был, — очищенного от трех столетий ученого философствования и насильственных театральных адаптаций.
На протяжении долгих лет Поул ставил драмы Шекспира и его современников в условиях, сколь возможно приближенных к елизаветинским: на сцене из трех частей, основной, верхней и внутренней, с навесом, который поддерживали два столба, почти без сокращений, без занавеса и антрактов (в крайнем случае он шел на компромисс и вводил один антракт в десять минут), с актерами, одетыми в костюмы XVI столетия, даже если играли пьесу из античной жизни. Он мечтал получить в Лондоне театральное помещение, где он мог бы построить копию елизаветинской сцены и играть на ней всего Шекспира, посылал прошения правительству, унижался перед меценатами — безуспешно. Поулу приходилось ставить свои спектакли в обычных театрах (да и тут возникали трудности: нужно было платить за аренду), с сокрушением сердца встраивая шекспировские подмостки в пределы сцены-коробки. Так были сыграны «Мера за меру», «Ромео и Джульетта», «Ричард II», «Гамлет» (вторая постановка), пьесы Роули, Форда, Миддлтона. Иногда ему удавалось получить в свое распоряжение двор елизаветинского замка (он поставил «Печальную пастушку» Бена Джонсона во дворе фулемского дворца), зал средневековой гильдии или юридической корпорации, где сами стены помогали воскресить дух эпохи «королевы-девственницы». Там Поул поставил свои лучшие спектакли: «Комедию ошибок» (1895), «Доктора Фауста» Марло (1896), «Двенадцатую ночь» (1897), «Бурю» (1897).
«Комедию ошибок» Поул показал в Грейз-Инн-холле, где за триста лет до этого, на рождество в 1594 году, труппа Лорда Камергера играла ту же пьесу перед профессорами, студентами Грейз-Инна и их гостями. И теперь, в 1895 году, в том же огромном зале, за такими же длинными столами снова сидели члены той же юридической корпорации и их гости, а перед ними прямо на полу, в конце зала, на фоне той же украшенной резным деревом стены с массивными тюдоровскими дверьми, в которые входили и уходили актеры, разыгрывалась, разумеется без всякого антракта, та же комедия Вильяма Шекспира. По краям сцены стояли факельщики и стражники с алебардами, одетые в средневековые ливреи служители Грейз-Инна. Оба Дромио носили костюмы елизаветинских слуг, даром что были древние греки: герцог и его приближенные были наряжены как вельможи двора Елизаветы. В конце комедии все присутствующие стоя прочитали торжественную молитву за здоровье королевы (текст взяли из пьесы драматурга XVI века Николаса Юдолла). После представления, точно как в старину, пока гости ужинали, их развлекали игрою на лютне, виоле и клавесине музыканты во главе с Арнольдом Долметшем, знаменитейшим реставратором старинных инструментов и ревнителем старинной музыки, — он был непременным участником постановок Поула17.
«Гамлет» в постановке У. Поула. «Карпентер-холл». 1900
«Двенадцатая ночь» была сыграна в Миддл-Темпл-холле, том самом помещении, где в 1602 году актеры труппы Шекспира показывали эту комедию членам юридической корпорации Миддл-Темпл, для которой пьесу играли и теперь. На этот раз в зале соорудили помост с широким просцениумом, верхней галереей и ткаными малиновыми и черными занавесями, отделявшими просцениум от внутренней части сцены: конструкция подмостков более или менее точно повторяла устройство театра «Лебедь», изображение которого обнаружили в 1888 году, что сразу изменило многие представления о елизаветинской сцене. По обеим сторонам сцены, у стен зала и в коридорах Миддл-Темпла стояли алебардщики, свет электрических ламп был слегка затуманен, чтобы дать ощущение света свечей, вновь звучала стилизованная под елизаветинскую музыка Долметша, ее играли на итальянском вирджинале 1550 года и лютне 1560 года.
Однако истинный смысл и ценность спектаклей Елизаветинского сценического общества не в педантической (таковая и невозможна) реконструкции старой сцены, но в том, что на пустых подмостках Поула к пьесам Шекспира вернулись легкость дыхания, стремительность действия, поэтическая свобода: сцена говорила языком намеков, будивших фантазию зрителей, между актерами и публикой возникал особый динамический контакт, невозможный в традиционном театре XIX века. Заколдованная линия рампы была перейдена, местом действия мог становиться весь зал. Так, в «Двух веронцах», поставленных в старинном Мерчант-Тэйлорз-холле (1896), разбойники с барабанами и трубами маршировали среди зрителей, а изгнанный Валентин убегал в зрительный зал — прием, тогда поражавший новизной и «истинно елизаветинским духом».
«Некоторые называют меня археологом, но я не археолог. На деле я современный художник. Моя подлинная цель была не в том, чтобы найти способ играть Шекспира естественно и увлекательно по полному тексту, как в современной драме. Я нашел, что для этого необходима сцена-платформа и также некоторый намек на дух и нравы той эпохи»18. «Елизаветинская сцена» Поула была не учебным пособием для начинающих историков театра и любопытствующих, а шагом к созданию современного условного театра. Вот почему, посмотрев поставленного Поулом «Доктора Фауста», Бернард Шоу мог написать: «Уильям Поул дал нам не буквальное, а художественное воспроизведение елизаветинского времени; в результате картина прошлого, как всегда это бывает в таких случаях, оказалась картиной будущего»19.
«Елизаветинские опыты» Поула — одно из предвестий сценического традиционализма. Рождающаяся новая театральная система, ломая традиции театра XIX столетия, в поисках новых театральных форм, обращаясь к добуржуазным эпохам театра — античности, средневековью, Испании золотого века, итальянской комедии дель арте, к фольклорным истокам искусства сцены, — не могла миновать шекспировский театр. Собственно традиционалистским экспериментам, в которых элементы старого театра становились предметом свободного варьирования и эстетической игры, предшествовали попытки точного воспроизведения старинной сцены — без вторых не могло быть первых. Не случайно создатели петербургского Старинного театра вознамерились вначале дать серию точных историко-театральных реконструкций, а затем Н. Евреинов осуществил свои стилизаторские опусы по мотивам прежних театральных эпох. В 1889 году архитектор К. Лаутеншлегер и режиссер И. Савитц построили в Мюнхене шекспировскую сцену. Работы Савитца оказались ранним предварением «революции театра», которая произошла в XX веке.
Искусство Поула было лабораторией, в которой исподволь готовилось рождение театральной системы XX века в ее английском варианте.
Как известно, «возвращение» складывающегося современного театра к добуржуазным театральным формам не ограничивалось поисками новых художественных возможностей, но обусловлено в конечном счете мотивами внеэстетическими. Тем более это справедливо по отношению к Уильяму Поулу. «Елизаветинское возрождение» исполнено глубокого этического смысла. Он, этот смысл, с ясностью обнаруживается, когда театральные идеи Поула поставлены в связь с судьбой тех английских мыслителей и художников второй половины XIX столетия, чьи духовные искания отмечены своего рода романтическим медиевизмом.
Дом, где вырос Уильям Поул, был проникнут воздухом старины и искусства. Его отец, инженер, был известным органистом, знатоком старинной музыки, другом художников и поэтов-прерафаэлитов. Холман Хант писал с маленького Поула младенца Христа. Когда Поулу было двенадцать лет, он позировал Фредерику Бертону для акварели «Оруженосец рыцаря»: мальчик с бледным, недетски серьезным лицом, глядящий прямо на нас, держится за стальное стремя сидящего на коне средневекового рыцаря; держится крепко — не оторвать, словно чувствует себя в безопасности только рядом со всадником в блистающих латах. (Работа Бертона довольно слащава, он художник средней руки, но, случайно или нет, он смог предугадать судьбу Поула, идею, которая станет содержанием многих лет его жизни.)
«Уильям Поул дышал с ранних лет всем самым утонченным, что было в средневикторианской культуре, и сохранил до конца темперамент и в некоторой степени вкусы прерафаэлита»20, — пишет историк.
Воспитанный на поэзии и живописи Россетти, на «Камнях Венеции» Рёскина, он уже в юности попал в самое средоточие викторианского Лондона, который его духовные наставники считали верхом бездушия и уродства. Он служил в строительной конторе, сооружавшей одно из самых громоздких и самодовольных зданий викторианской эпохи — Альберт-холл. В дневнике он писал: «Я еще в рабстве у Ада»21. Адом он называл Город, механическое чудовище, ненавистное ученику прерафаэлитов. Современный театр казался ему детищем Ада, он мечтал об искусстве, которое не имело бы ничего общего с железным XIX веком. Поул задумал создать «театр на природе», играть Шекспира в лесу, на поляне перед каким-нибудь старым замком, в парке. Так он однажды поставил «Двух веронцев» — среди деревьев, под открытым небом, в солнечном свете. Но «Два веронца» остались у Поула единственным опытом «театра на природе»22.
Поул выбрал иной путь. Его первый театральный учитель, создатель шекспировской труппы Фрэнк Бенсон, не только внушил Поулу веру в этическую миссию театра, но и открыл ему Уильяма Морриса. До тех пор Поул знал Морриса как поэта и художника, теперь он узнал его как мыслителя. «Он был учеником Уильяма Морриса, — говорил Поул о Бенсоне. — Он следовал по стезе этого апостола радикализма. В начале 80-х годов я впервые услышал сказанные Бенсоном памятные слова Морриса: коммерциализм и конкуренция сеют ветер, чтобы пожать бурю»23.
Поул взял у Морриса не его социалистические идеи, не то, что отделяло его от прерафаэлитов, а то, что сближало его с ними: ностальгический взгляд на позднее средневековье, которое казалось прерафаэлитам царством истины и поэзии в противоположность машинной цивилизации, враждебной искусству и человечности, проповедь спасительного возврата к докапиталистическим формам производства, к духовной цельности средневекового ремесленника, свободного и радостного труженика, творца красоты24.
Бегство из Ада Поул решил предпринять не в пространстве, а во времени, искать спасение не в природе, а в прошлом. Притом прошлое это было, в сущности, средневековьем. Вслед за Моррисом считая Ренессанс «неорганической эпохой» культуры, он чувствовал влечение к тем сторонам шекспировского театра, которыми он обращен не к рационалистическому XVII веку, началу Нового времени, а к доренессансной театральной традиции, к средневековым подмосткам.
Возвращение к голым доскам «деревянного О», театра, выстроенного в 1599 году плотником Питером Стритом и его подмастерьями, казалось ему способом вернуть в театр первоначальную простоту, поэзию и истину искусства «органической эпохи». Простое и подлинное искусство шекспировской сцены было призвано помочь исцелению человечества от социальных и нравственных недугов современности. Так обнаруживается связь между эстетическими утопиями поздних романтиков, одним из которых был Уильям Поул, и рождающейся художественной культурой XX века, которой, в сущности, принадлежат его театральные искания.
Духовно очистительная миссия театра предъявляла к людям, которые должны были ее осуществить, особые нравственные требования.
Поул редко работал с профессиональными актерами, и не только потому, что ему нечем было им платить. Его страшила возможность столкнуться с людьми, развращенными современной театральной коммерцией, отравленными ка-ботинством и привычкой к сценической неправде. Он предпочитал окружать себя любителями-энтузиастами и бессребрениками, каким он был и сам. Елизаветинское сценическое общество, которое он создал и члены которого стали его актерами, не что иное, как клуб театральных любителей. Но с таких же клубов начинали Антуан и Станиславский: роль любительского движения в реформе европейского театра на рубеже веков до конца еще не оценена.
После представления «Комедии ошибок» в Грейз-Инн-холле Бернард Шоу писал: «Я всегда отдавал должное актеру-любителю; теперь я начинаю цепляться за него как за спасителя театрального искусства»25.
В распространении любительских обществ Поул готов видеть нечто большее, чем средство обновить театр. «Я верю, — писал он, — что страна наша наполнится любителями-комедиантами, кои станут лицедействовать на зеленой и приятной земле нашей, убежденные, что они делаются лучше сами и делают лучше своих близких»26. Поул здесь намеренно архаизирует свой язык. Любительские труппы, призванные себя и других «делать лучше», — одна из многих благородных иллюзий ученика Морриса — представляются ему похожими на бродячие театральные «компании» старых времен. Елизаветинское сценическое общество он создавал как союз, построенный на строгих нравственных основаниях, по образцу средневекового цеха или религиозного братства.
Стремление Поула вернуться вспять, к истокам, начать все сначала было исполнено фанатического радикализма. Подобно Жаку Копо, который на вершине славы бросил театральный Париж, чтобы уединиться с учениками в деревне и делать там студийные опыты, он мог бы воскликнуть: «Дайте мне чистую доску!» Он хотел любой ценой освободить пьесы Шекспира от слащавых и переусложненных викторианских толкований, чтобы понять (и заставить понять других) Шекспира как человека своей эпохи, современника Рэли, Сесила, Фробишера.
Меланхолический и томно-загадочный Гамлет Ирвинга вызывал у него отвращение. Бросая вызов современной сцене, он объявлял «Гамлета» типичной елизаветинской трагедией мести. Он видел пьесу в житейски конкретных деталях: в сцене на кладбище Гамлет в матросской одежде, гроб Офелии несут солдаты, в финале — грохот барабанов и топот солдатских сапог. Экзальтированно нервному, стоящему на грани душевной болезни «бархатному принцу», царившему на викторианской сцене, он противопоставил своего Гамлета, единственного здорового человека в Эльсиноре. «Если Гамлет безумен, то кто в пьесе здоров? Уж, конечно, не король-убийца, не предательница-королева, не рамолик Полоний, не безмозглая Офелия, не ее хвастливый брат»27.
Трактовку характера Шейлока, созданную театром XIX века от Эдмунда Кина до Ирвинга, он считал сентиментальным вздором, не имеющим решительно никакого отношения к пьесе Шекспира. Кин играл Шейлока трагическим мятежником в духе байроновского Каина. У Ирвинга Шейлок был фигурой мелодраматически трогательной. Самым знаменитым в «Венецианском купце» на сцене «Лицеума» был эпизод, которого нет у Шекспира: возвращение Шейлока домой после бегства Джессики, о котором он еще не знает. Медленно, с трудом передвигая ноги, старый коммерсант шел в свой дом, в свою крепость, где, как всегда, его встретит дочь, единственное его утешение и опора в старости. Но дом пуст. Крепость пала. Публика плакала.
Но как, однако, быть с фунтом мяса?
Поул был уверен, что настоящий, шекспировский Шейлок — тот, каким его играли в труппе Лорда Камергера, комический злодей с длинным носом и в рыжем парике. Так Поул и играл эту роль, возбуждая негодование приверженцев Ирвинга, которые на этот раз были не так уж неправы.
Поул шел на намеренное упрощение Шекспира, на то, чтобы объяснить весь смысл его пьес, исходя из елизаветинских взглядов, обычаев и театральных условностей. Тут ему изменяла прерафаэлитская созерцательность и в нем просыпался яростный полемист. Все что угодно, только не быть викторианцем. Неудивительно, что на диспуте о «Венецианском купце», когда Поул излагал свои взгляды на Шейлока, председатель собрания, поклонник Ирвинга, демонстративно покинул зал.
Актриса Лилла Маккарти, начинавшая у Поула и не раз слушавшая его публичные лекции, вспоминала, что, выступая перед слушателями, Поул говорил возбужденно, страстно и даже грубо28. Он был похож на пуританского проповедника, обрушивающего грозные инвективы на погрязший во лжи, духовном разврате и роскоши мир.
Со страстью иконоборца Поул восстал против владычества на сцене материально-чувственной, вещественной воплощенности, против того, что он сам называл «тиранией визуальных искусств». Представления Елизаветинского сценического общества шли на пустой, ничем не украшенной сцене, обходясь самым скудным реквизитом, избегая ярких красок, почти лишенные внешнего движения, — актеров Поула не раз бранили за статичность. В своем аскетическом энтузиазме Поул, как обычно, заходил слишком далеко. Подлинный театр шекспировской эпохи был куда более красочным и динамическим искусством. Но Поулу, с его характером бунтаря, было не до археологических тонкостей. В сущности, он создавал свой собственный образ елизаветинской сцены. Он был прав, протестуя, когда его называли археологом. Конечно, его интерпретация шекспировского театра в главных ее чертах бесспорна, и все же это именно интерпретация, которая могла появиться только в конце XIX века, в эпоху кризиса старого театра, которому она противостоит по всем статьям, точно так же, как медиевистская и пуританская концепция Поула противостоит буржуазному обществу и буржуазной культуре, утопающим в богатстве и роскоши, предающимся валтасаровскому пиру чувств — пока не пробьет их час.
Поул стремился вернуть на сцену шекспировскую поэзию, шекспировское слово, задавленное, вытесненное кричащей живописностью и буквалистским прозаизмом викторианского «пиршества для глаз». Роль декорации в его театре исполняло слово. По свидетельству Шоу, Поул и его актеры в постановке «Бури» предоставили самому поэту создавать силой своей магии образ острова, «наполненного звуками и сладостными мелодиями». Уильям Поул говорит откровенно: «Вон видите там хоры для певцов? Давайте поверим, что это корабль». Мы соглашаемся и верим»29.
Поул был убежден, что елизаветинская публика приходила в театр не смотреть, а слушать. Репетиции Поул вел обычно с закрытыми глазами. Ничто не должно мешать господству слова, посредством коего прежде всего и возрождается поэтический дух старого театра.
Хор в «Ромео и Джульетте» говорит:
Их жизнь, и страсть, и смерти торжество,
И поздний мир родни на их могиле
На два часа составят существо
Разыгрываемой перед вами были.
Значит, на сцене шекспировского театра трагедия шла всего два — два с половиной часа. У Бирбома-Три представление сильно урезанного «Юлия Цезаря» тянулось почти пять с половиной часов.
Труппа Бенсона, играя полный текст «Гамлета» (в первый раз со времен Шекспира), показывала трагедию, по примеру Вагнера и Байрейта, в два приема: днем и вечером, по три часа. Актеры Елизаветинского сценического общества, не нуждаясь в перемене декораций, играли без антрактов и пауз между сценами — так, как это было в «Глобусе», и благодаря особой стремительной легкости речи, которой умел добиться от них Поул, смогли вернуться к первоначальной продолжительности.
Речь шла, конечно, не просто о скорости и не о желании сделать уже все, «как при Шекспире». Английские режиссеры XX века, начиная с Поула, потратили много сил и изобретательности, чтобы добиться быстроты и непрерывности течения действия, вовсе не из академических соображений, но стремясь восстановить закрепленный в драматическом слове поэтический ритм подлинника, организующий движение художественного времени, передающий ход волнующейся, играющей жизни.
Поэтический ритм организует не только время шекспировской драмы, но и ее пространство, систему поэтических лейтмотивов, образующих ее метафорический микрокосм, в котором отразилась Великая цепь бытия.
Оживить поэтический ритм драмы Шекспира, искаженный и задавленный тяжкой десницей викторианского театра, значило вернуть на сцену звучащий у Шекспира голос надличных сил природного и исторического бытия, голос Вселенной.
Гордон Крэг реализовал поэтический хронотоп Шекспира пластически — посредством движения и цветосветовых метаморфоз сценического пространства.
Поул стремился сделать это посредством музыкальной аранжировки сценического текста. Его подход к Шекспиру был близок к тому, который проповедовал Шоу. В полном согласии с Поулом он утверждал, что «истинный ключ к Шекспиру — слух», что не буквальное содержание шекспировской строки «позволяет вам проникнуть в тайну переживаний и характер героя, а ее музыка... Словом, не либретто, а партитура оставляет произведение живым и свежим»30. Совпадение идей драматурга и режиссера понятно — их объединяли пуритански-иконоборческие покушения на викторианский театр.
Поэтический текст был для Поула не только словесной тканью, но и системой музыкальных звучаний, обладающих особым средством воздействия на эмоциональный мир слушателя. Он выстраивал сложную голосовую партитуру. В «Двенадцатой ночи» он «слышал» Виолу как меццо-сопрано, Оливию как сопрано, Себастьяна как альт; Антонио — бас, Мальволио — баритон, Орсино — тенор, Эндрю — фальцет и т.д.
Музыкальная стихия рождалась в спектаклях Поула как результат созвучия отдельных голосов и в то же время существовала как бы независимо от конкретных ситуаций и характеров; она возникала из слова, но, отчуждаясь от него, получала самостоятельную жизнь — через нее в малый мир пьесы должен был войти образ мироздания.
Музыка помогала передать дух пьесы как художественного целого. В этом смысле ее функцию можно сравнить с той ролью, которую играет в современном театре «атмосфера» — одна из ключевых категорий театральной эстетики XX века.
Какое это, однако, имеет отношение к подлинному елизаветинскому театру? Выбрав одну грань словесного искусства Шекспира, Поул сделал ее предметом утонченного и, нужно признаться, несколько абстрактного экспериментирования. Не так уж много общего между реконструкциями Елизаветинского сценического общества, учеными и искусными, и вольным духом площадной сцены, полной «жизни и движения». Художники и поэты прерафаэлитского круга и воспитания рисовали милые их сердцу средние века как мир одухотворенной и хрупкой красоты, страну бледных королев и печальных волшебников. Они ничего не хотели знать о варварстве и жестокости рыцарских времен, но не умели почувствовать и подлинной поэзии многокрасочной и многоголосой народной жизни средневековья. Елизаветинский театр у Поула — это труппа Бербеджа без Кемпа и Р. Армина, Шекспир без фальстафовского фона.
Народному театру будет еще суждено ожить в XX веке, разумеется, в форме, преображенной согласно нуждам времени, но для этого потребуется революционный взрыв, до которого еще далеко 80-м годам XIX века, да и произойдет он не в Англии.
Медиевистскую утопию Поула ждала участь прочих эстетических ретроспекций, всерьез рассчитывающих на осуществление. Можно в точности воспроизвести устройство старинного театра, одеть актеров в точности так, как одевались их предки триста лет назад, можно сделать копию елизаветинской сцены в натуральную величину, но нельзя возвратить елизаветинцев. Для этого мало, как сделал Поул в «Мере за меру», посадить на сцену актеров, одетых в костюмы шекспировских времен и изображавших знатных зрителей «Глобуса», сидевших, как известно, прямо на подмостках. Как внушить современной публике, что перед нею не условная театральная среда, а пустое пространство, «воздушное ничто», которому лишь поэт и актер в союзе со зрителем «дают и обиталище, и имя»?
Да и можно ли было, наконец, в настоящем елизаветинском театре увидеть настоящего Шекспира? Вряд ли Шейлок, сыгранный актером труппы Лорда Камергера, адекватен Шейлоку Шекспира. В лоне трехвекового развития культуры происходило не только перетолковывание образов классики, но и проникновение в их действительную суть, скрытую от современников, а иногда и от самого их создателя. Повторить первоначальную трактовку означало бы вернуться к уровню мышления толпы XVI века, исповедовавшей, как известно, ненависть к евреям.
Если предположить, что театральная публика времен Шекспира каким-нибудь чудом оказалась бы перед елизаветинской сценой Поула, она, вероятно, либо заснула бы, убаюканная ритмическим течением словесной музыки, либо, как это было у нее в обыкновении, прогнала бы актеров прочь со сцены. Отсюда вовсе не следует, что плоха елизаветинская публика или плохи спектакли Поула. Они принадлежат разным эпохам, и «вместе им не сойтись».
Искусство Поула со всеми его реставраторскими поползновениями могло родиться только на рубеже прошлого и нынешнего веков. Обращаясь к Шекспиру, он, осознанно или нет, переводил его пьесы на язык художественной культуры новейшего времени. С годами это выражалось все отчетливее. Его причудливые эксперименты с музыкой шекспировского стиха приближали его не к подмосткам «Глобуса», а к опытам современных ему французских поэтов. Его спектакли, в которых надличная стихия музыки властно царила над людьми, застывшими в статичных позах, неожиданно напоминали о Метерлинке. В 1892 году он изложил свой новый взгляд на «Гамлета». Тема трагедии, говорил он, не судьба одной индивидуальности, но участь человечества, «конспект» человеческой жизни, над которой господствует непостижимый рок, настигающий добрых и злых, сильных и слабых. В его устах изложение трагедии Шекспира звучит как пересказ «Слепых» или «Непрошеной».
Метерлинковские мотивы предвещают поворот в искусстве Поула, наступающий в последние годы прошлого столетия. Толчком послужили гастроли труппы Люнье По (1896). Но еще до этого в постановках Елизаветинского сценического общества возникают черты, несогласные с реставраторским пуританизмом Поула. Герои «Двух веронцев» выходят на подмостки не в елизаветинских костюмах, как это было в «Глобусе», а в одеждах, скопированных с итальянских фресок XVI века, а в «Докторе Фаусте» являются, по словам критика, «боттичеллиевские ангелы и бердслеевские семь Грехов, словно вышитые на старинном ковре»31. Елизаветинская драма приобретает на сцене очертания итальянской живописи, пропущенной через восприятие поздних прерафаэлитов и художников модерна: отсюда странный симбиоз Боттичелли и Бердсли, Беллини и Уотса. Пуританский бунт против «визуального» сменяется реминисценциями живописи — нечувствительно для публики, которая вряд ли усмотрела особое различие между елизаветинскими костюмами и одеждами, скопированными с полотен итальянцев.
Такова судьба эстетической утопии, которая тщилась возвратить «органическую эпоху» человеческой истории, а в конце концов порождает более или менее утонченную стилизацию, способную обогатить язык современного искусства, но уж никак не исцелить больное «тяжким материализмом» человечество. Отныне искусство Поула надолго входит в круг собственно традиционалистских исканий европейской режиссуры рубежа веков; предметом стилизации он делает не формы старинного театра, а образы старинной живописи.
В 1889 году Поул поставил дотоле не игранную трагедию Мильтона «Самсон-борец». На сцене стояла высокая пирамидальная конструкция, на вершине которой бездвижно стоял в темном хитоне герой трагедии, а на разных уровнях пирамиды были размещены прочие персонажи в одеждах, форма и цвет которых заставят критиков вспомнить о картинах итальянцев XVII века.
(Критиков поразил принцип пространственной композиции спектакля — по вертикали. Они относили это за счет влияния знаменитого «треугольника» итальянцев. Вернее было бы здесь видеть очищенную от следов академической реконструкции структуру елизаветинской сцены, архитектоника которой отражает средневековую картину мира, ориентированную по вертикали: мир — театр.)
Библейскую трагедию великого пуританина Поул облек в великолепные барочные одежды. Последнее создание слепого поэта стало на сцене «пиршеством для глаз», составленным, впрочем, из блюд самых утонченных. Но мир красоты и искусства — и в этом состояла идея режиссера — был обречен. Ему грозила неминуемая гибель. Слепой Самсон в финале уходил, чтобы свершить свой последний подвиг. Он медленно спускался по ступеням пирамиды и покидал сцену. Она погружалась в темноту. Разрушение храма было возмездием. Эстетически безупречный мир заслуживал своей участи, ибо его населяли филистимляне, закосневшие в блуде и роскоши, предавшие интересы духа, от имени которого судил герой пуританской трагедии. Так толковал Мильтона Уильям Поул.
Та же тема обреченности красоты, безразличной к добру, трактовалась Поулом в постановке средневекового моралите «Всякий человек». Поул отказался от попытки реставрировать средневековый театр или даже дать его стилизацию. Критики вновь состязались в отгадывании, из какой картины какого художника заимствована та или иная фигура на сцене: «Вестник с гробницы на полу Санта Кроче, украшение ниши, откуда вещает Бог, — ландшафт Беллини с деревьями и горами в отдалении. Ангел на ступенях во всех деталях, если не ошибаюсь, взят из «Товия» Боттичелли. Всякий Человек в его траурных одеждах явился прямо из «Страшного суда» Орканьи, фигура Исповеди — с гробницы работы Мино де Фьезоле»32.
Составленный критиком С. Монтегю каталог скопированных шедевров не может не вызвать иронического к себе отношения. Однако критик пишет о спектакле с восторгом. На сцене мотивы, взятые у разных художников Возрождения, были приведены к единству путем стилизации в духе современной живописи. Оттого облик Адонаи, навеянный одной из картин Уотса, не казался здесь странным. Публике дела не было до того, откуда что появилось, перед ней был образ мира, полного рафинированной, несколько пряной красоты, мира, с которым дисгармонировала фигура Смерти, решенная в стиле средневекового примитива или персонажа средневековой сцены, не с косой, а с барабаном и трубой в руках: ровно-отчетливым, лишенным интонаций голосом она возвещала о том, что пришел час последней расплаты и Всякому человеку, забывшему о бренности мирских утех, должно теперь держать ответ перед высшим судией33.
Поул был человеком глубоко верующим, притом что показная викторианская набожность была ему противна. К религиозному смыслу средневековой пьесы он относился со всей серьезностью. Он нисколько не склонен был иронизировать над наивным дидактизмом старой пьесы. Напротив, в самом простодушии «Всякого человека» Поул видел знак истинной веры, утрата коей составляла, по его суждению, смертный грех современной цивилизации, грех, за который скоро придется платить.
Тут-то и лежало различие между его постановкой и знаменитым спектаклем Рейнхардта «Всякий человек», созданным на несколько лет позже. Об этом писал Харли Гренвилл-Баркер, когда в 1936 году увидел в Зальцбурге грандиозное зрелище, устроенное немецким режиссером: «Вещь поставлена хорошо, и все же, все же! Ни разу мне не захотелось встать на колени. А я едва удержался от этого, когда старик Поул впервые поставил «Всякого человека» — подлинного, не гофманеталевского — в Сент-Джордж-холле много лет назад»34.
Чем многокрасочнее, эстетически насыщеннее становился облик спектаклей Поула, чем менее пуританскими были они по форме, тем громче и настойчивее заявляло о себе духовно-проповедническое начало его искусства. Он и в самом деле начинал быть похожим на пуританина.
Шекспировского «Макбета», поставленного им в 1909 году, он понял как столкновение «религиозного сознания героя, которое основано на идее личной ответственности», воспитанной Реформацией, и эстетического «имморализма Ренессанса»35, запечатленного в характере леди Макбет. Макбет предавался соблазну эстетического кровопийства и погибал, замученный совестью. Поул продолжал считать Возрождение «неорганической эпохой», началом грехопадения культуры, отчуждающейся от Бога и добра и зашедшей наконец в тупик бесчеловечной викторианской вещественности и столь же бесчеловечного эстетизма. Леди Макбет в спектакле Поула была похожа на героиню Уайльда: глаза, подведенные зеленой краской, золотые мушки на лице, рыжие волосы, экзотические яркие одежды, гибкое тело, смертоносная красота Саломеи.
В «Макбете» 1909 года с отчетливостью выразился парадокс, лежавший в основании всего, что делал Поул в те годы. Посылая проклятья современной культуре, охваченной смертельным недугом, Поул воплощал ее мир в образах новейшего искусства во всей его чувственной прельстительности, которую лишь умножала витавшая над ней тень конца. «Вождь пуританской революции в театре», подобно его Макбету, не мог устоять перед эстетическим искушением. Он оказался в плену поэтики модерна, стиля, выразившего время, которому принадлежал и он, Уильям Поул. Об этом раздоре в душе Поула говорил режиссер А. Бриджес-Адамс, назвавший учителя «аскетом-дионисийцем».
Апокалиптические настроения, которыми проникнуты спектакли Поула, поставленные в начале века, выразили предчувствия надвигающейся катастрофы. В январе 1914 года Поул поставил «Гамлета». Мир трагедии виделся ему окрашенным в цвет крови: тяжелые, красного бархата занавеси, лестница, покрытая пурпурным мягким ковром, в котором глохнут шаги людей; огромные серые прямоугольные «крэговские ширмы» — то ли башни Эльсинора, то ли скалы, о которые бьется кровавое море. Поул толковал «Гамлета» как трагедию молодого, бросающего вызов року поколения. Он говорил, что пьесу Шекспира можно назвать «Восстание молодежи». Все молодые восстают против грозных сил, правящих миром, всякий на свой лад, даже Клавдий, которого Поул видел почти ровесником Гамлета, «бледным изящным молодым человеком тридцати с лишним лет». Участь Клавдия, история борьбы за власть, политическая тема трагедии занимает теперь Поула даже больше, чем судьба Гамлета. «Поул видел в «Гамлете» скорее политическую, чем психологическую пьесу»36.
«Восстание молодежи» — Клавдия так же, как Гамлета, — бесплодно, «все в когтях неисповедимых сил»37. В первом своем «Гамлете» 1881 года Поул интерпретировал финальный приход Фортинбраса как «утверждение жизни в самом средоточии смерти» и даже «символ политической невинности»38. В спектакле 1914 года приход юного полководца со своими солдатами разбивает последние надежды.
Окровавленный мир поуловского «Гамлета» воплотился в реальность через семь месяцев после премьеры.
Когда началась война, Поулу было уже за шестьдесят. Он дожил до глубокой старости. Последний раз Поул поставил Шекспира в восемьдесят лет. Это был «Кориолан». Старик Поул говорил от имени послевоенного «потерянного поколения». Он создал спектакль о грязи и гнусности политики и политиков. В этом «Кориолане» все друг друга стоили — и сенаторы, и трибуны, и Волумния, и сам Кориолан. Сочувствия заслуживал только народ, жертва демагогов — открыто правых. Поул перенес действие трагедии из Древнего Рима в эпоху Директории — время, которое вынашивало Наполеона. Поул поставил спектакль-предупреждение: его «Кориолан» появился в 1931 году.
«Кориолан» шел один раз, как почти все спектакли, поставленные Поулом. Английские театральные предприниматели не желали оплачивать эксперименты. Если они решались выложить деньги на Шекспира, они предпочитали постановки в духе Бирбома-Три. Вкусы английской публики были неизменны. Свой театр у Поула так и не появился. Его знали профессионалы, узкий круг ценителей театральных новшеств. Его последователями были Ф. Бен-Грит, Х. Гренвилл-Баркер, Р. Аткинс, Н. Монк, Т. Гатри. Его идеи изучали Питер Холл и Питер Брук. Но широкая публика Англии, работать для которой он мечтал, его не знала, ничего не знали о нем и на континенте. Ему суждено было остаться режиссером для режиссеров — не самая счастливая судьба для человека театра. Старость не научила Поула компромиссам. В 1929 году ему предложили рыцарское звание, как когда-то Генри Ирвингу. Ирвинг стал первым «сэром» английского театра. Поул поблагодарил и отказался.
Примечания
1. «The Theatre Magazine». L., 1882, October.
2. Odell G. Shakespeare from Betterton to Irving. N.Y., 1966, p. 432.
3. Аникст А. Предисловие. — В кн.: Уайльд О. Избранные произведения. М., 1961, с. 7.
4. «Уайльд был так влюблен в стиль, что он никогда не сознавал опасности откусить больше, чем сможешь прожевать. Другими словами, опасность нагрузить стиль более, чем способно вынести произведение. Мудрые короли надевают поношенное платье, оставляя золоченое кружево тамбур-мажору» (Б. Шоу). Цит. по: История английской литературы. М., 1958, т. 3, с. 249.
5. Уайльд О. Полн. собр. соч. Спб., 1909, т. 5, с. 367. Статья Уайльда полна противоречий, и, не пытаясь их разрешить, он превращает их в предмет игры: «Нельзя сказать, чтобы я сам был согласен со всем, что я высказал в этой статье. Есть многое, с чем я совершенно не согласен» (там же, с. 380).
6. Манн Т. Сочинения. М., 1960, т. 9, с. 394.
7. Там же.
8. Шоу Б. Предисловие к «Трем пьесам для пуритан». — В кн.: Шоу Б. Сочинения. М., 1979, т. 2, с. 20.
9. Там же.
10. Парадокс, следовательно, состоял в том, что войну «пиршеству для глаз» должны были объявить те, кто исповедовал идею воплощенности духовных начал.
11. Его фамилия правильно пишется «Pole» (Поул). Он стал «Poel» из-за опечатки в афише его первого выступления на сцене, сохранив навсегда такой способ написания.
12. Guthrie T. In Various Directions. L., 1965, p. 64.
13. «The Times», 1844, 18 March.
14. Театральная компания «Елизаветинцев», действовавшая только летом, уже распалась.
15. Poel W. Shakespeare in the Theatre. L., 1913, p. 121.
16. Ibid., p. 120.
17. Все в этот вечер было чинно и торжественно, как и подобает старинной солидной корпорации. Однако триста лет назад все было не так: представление «Комедии ошибок» составляло часть рождественского «празднества дураков». В зал набилось столько народу, что знатных гостей некуда было пристроить. Из-за суматохи, давки и дурачеств, в которых изощрялись студенты, спектакль могли начать только ночью. Вот разница между елизаветинским Грейз-Инном 1594 года и викторианским 1895-го.
18. «The Daily Chronicle», 1913, 3 September.
19. Шоу Б. О драме и театре, с. 302.
20. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival. L., 1954, p. 14.
21. Ibid., p. 17.
22. Ученик Поула Ф. Бен-Грит впоследствии подхватил и реализовал эту идею во множестве шекспировских спектаклей, поставленных на фоне естественного ландшафта. Как могли они знать, во что обратятся их руссоистские надежды: к середине нашего столетия «Шекспир на открытом воздухе» станет второсортным аттракционом для безденежных туристов.
23. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 17.
24. Моррис был равнодушен к современному театру, считал его коммерческим предприятием, мало чем отличающимся от капиталистической фабрики. Зато он увлекся средневековыми театральными жанрами. Его единственная пьеса «Любовь-владычица» построена в форме средневекового театрального действа. Неудивительно, что среди немногих режиссеров, поставивших ее, был Уильям Поул.
25. Шоу Б. О драме и театре, с. 249.
26. Styan J.L. The Shakespeare Revolution. Oxford, 1977, p. 68.
27. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 54.
28. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 102.
29. Шоу Б. О драме и театре, с. 422.
30. Шоу Б. О драме и театре, с. 133—134.
31. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 119.
32. «The Manchester Guardian», 1902, 1 Nov.
33. На одном из двух представлений «Всякого человека» (1901 и 1902 годы) присутствовал молодой Макс Рейнхардт, который затем поставил «Всякого человека» в Зальцбурге. Позже, в 1912 году, вспоминая о «Комедии ошибок», поставленной Поулом в 1895 году, Шоу писал: «Когда целые годы спустя явился Рейнхардт, все воскликнули: «№ ликолепно!» — и упали к его ногам. И все же Рейнхардт никогда не создавал такого чудесного эффекта, который создал тогда Поул. Если бы Поул был немцем, они, может быть, сказали бы, что в нем что-то есть; они не верят, что в Англии может появиться искусство. Во всех хрестоматиях, вероятно, напишут, что Поул был учеником Рейнхардта» («The Pall Mall Gazette», 1912, 2 Dec.).
34. Purdom C. Granville-Barker. Cambridge, 1956, p. 246.
35. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 190.
36. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival, p. 228.
37. Ibid., p. 221.
38. Ibid., p. 223.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |