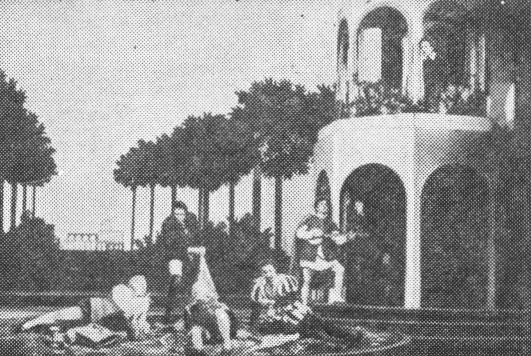Разделы
Счетчики
Б.И. Зингерман. «Шекспир на советской сцене»
Шекспир — наиболее популярный в Советском Союзе зарубежный драматург; произведения его широко и прочно вошли в репертуар советского театра. Многие из прославленных художников, которые творили позже Шекспира, кажутся куда более далекими, нежели он, отдаленный от нас тремя с половиной столетиями.
Знакомясь с Шекспиром, вслушиваясь в речь его героев, следя за их борьбой, проникая в их внутренний мир, мы учимся лучше понимать не только прошлое, но и настоящее. Произведения величайшего драматурга эпохи Возрождения вызывают живой и страстный отклик у советских читателей и зрителей.
Великий английский драматург Вильям Шекспир (1564—1616) родился в центральной части Англии в городе Стрэтфорде, что на реке Эйвон. Молодым человеком он попал в Лондон и здесь связал свою судьбу с театром. Он был актером и драматургом лучшего и знаменитейшего лондонского театра «Глобус». Современники высоко ценили его произведения, написанные для общедоступного театра, главным зрителем которого был простой лондонский люд. В стихотворении, посвященном памяти Шекспира, известный английский драматург того времени Бен Джонсон называл Шекспира «душой века», говоря, что он принадлежит не одному веку, но всем временам, и его слова оказались пророческими. Вот уже три с половиной века произведения Шекспира — исторические хроники, трагедии и комедии — не перестают занимать умы и сердца людей и не сходят со сцен театров многих стран.
Почему же драматург, писавший в далекую эпоху, когда старый, средневековый феодальный строй сменялся новыми, буржуазными порядками, оказался так близок последующим поколениям и стал символом драматического гения?
Великий реалист Шекспир отразил в своем творчестве важнейшие стороны эпохи Возрождения, которая, по словам Энгельса, была величайшим прогрессивным переворотом из всех пережитых до того времени человечеством.
Герои Шекспира — носители гуманистических идеалов — были рождены тем коротким историческим периодом, когда человек, сбросивший путы феодализма, еще не успел попасть в зависимость от капиталистических отношений. Шекспир выразил в своем творчестве характерный для эпохи Возрождения расцвет личности, стремительное пробуждение в ней деятельного начала, сознания того, что человек — хозяин своей судьбы. В гуманистических идеалах Шекспира нашли свое отражение сокровенные чаяния, во имя которых народ поднимался на борьбу с феодализмом.
Но Шекспир не был бы величайшим реалистом, если бы он отразил только эти стороны своей эпохи.
Эпоха Возрождения находит свое выражение в произведениях Шекспира со всеми своими двойственными и противоречивыми чертами. В Англии времен Шекспира развитие капитализма шло быстрее, чем в других странах, пороки феодального общества тесно переплелись в ней с бесчеловечностью буржуазных общественных отношений. Это дало Шекспиру возможность увидеть, что не только отживающие феодальные порядки, но и новые буржуазные отношения враждебны гуманистическим идеалам.
Сражаясь одновременно со злом и феодального и буржуазного общества, Шекспир поднялся до критики пороков, по существу свойственных всякому эксплуататорскому, собственническому обществу. Гуманистические идеалы, которые он защищал и которые отражали глубочайшие чаяния и мечты народных масс, были объективно враждебны всякому эксплуататорскому обществу.
Шекспир близок нам своим гуманизмом, убежденностью, что человек — «краса вселенной и венец всего существующего», что ценность человека определяется не собственностью, которой он владеет, а его личными качествами. Он близок нам глубокой народностью своего творчества, своим историческим оптимизмом, верой в человека, в конечное торжество гуманистических идеалов.
Нам близки герои его произведений — титаны Возрождения, свободные от уз феодальной морали и чуждые буржуазной ограниченности, не знающие компромиссов, разрыва между чувствами и мыслью, стремлениями и поступками, способные до конца вести борьбу за свои передовые идеалы.
* * *
В долгой сценической истории произведений Шекспира советский театр открыл принципиально новый этап. Творчество Шекспира, проникнутое глубокой народностью, в нашей стране стало достоянием трудящихся масс.
Красноречива сама «география» советских шекспировских спектаклей. Всего через два года после триумфа Остужева в роли Отелло в этой же роли в Тбилиси с огромным успехом выступил актер Хорава; вслед за тем трагедия «Отелло» ставилась в Армении и Таджикистане, Азербайджане и Узбекистане, Казахстане и Северной Осетии. Трагедия «Гамлет» была почти в одно и то же время поставлена в столице Узбекистана Ташкенте и в городе текстильщиков Иванове.
Произведения Шекспира в Советском Союзе появляются на сценах у народов, до революции вообще не имевших своего театра. Так, например, Государственный узбекский театр имени Хамза постановкой «Гамлета» в 1935 году отметил 15-летие своего существования. Зрители приезжали на представление шекспировской трагедии целыми колхозами из самых далеких уголков Узбекистана и соседних среднеазиатских республик. Таджикский театр драмы имени Лахути поставил «Отелло» в 1940 году к своему 10-летнему юбилею. Но дело, разумеется, не только в количестве постановок, в числе и характере зрителей, хотя и это говорит о многом.
Каждая эпоха истолковывала Шекспира по-своему. За три с половиной века, отделяющих нас от Шекспира, много раз менялись идейные позиции, с которых подходили к его творчеству. На каждом историческом этапе происходили столкновения прогрессивных и реакционных взглядов на Шекспира. Представители передовых общественных сил, рассматривая произведения Шекспира со своих исторически прогрессивных классовых позиций вносили ценный вклад в их правильное истолкование.
Особенность нашего подхода к Шекспиру заключается в том, что, истолковывая его произведения с позиций советской современности, мы тем самым до конца раскрываем их народность, их объективное содержание и значение. Эта особенность нашего истолкования Шекспира вытекает из существа классовой позиции рабочего класса по отношению к истории и культурному наследству.
Освобождающий человечество от уз эксплуатации, осуществляющий многовековые мечты народа о лучшей жизни, рабочий класс является естественным преемником всего лучшего, что создано человечеством на всем протяжении истории.
Борьба за подлинного Шекспира происходит, разумеется, не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В наше время, когда буржуазия утратила прогрессивную историческую роль, творчество Шекспира зачастую подвергается грубому искажению. В шекспироведческой науке капиталистических стран существуют реакционные направления и школы, которые фальсифицируют творчество великого английского драматурга, представляя его или как драмодела, уделявшего внимание в основном ловко закрученной интриге, или как пессимиста и мистика, воинствующего индивидуалиста и даже певца британского колониализма.
Отзвуки этих теорий можно найти в ряде зарубежных постановок Шекспира. Нередко его трагедии лишались на сцене своего исторического места и времени, насыщались чуждой им 6 философией, а комедии разыгрывались как грубые средневековые фарсы.
Один из последних примеров подобного рода — постановка «Короля Лира» в лондонском театре «Пэлэс» в абстрактном, формалистическом оформлении Исама Ногухи, где сделана попытка лишить трагедию Шекспира не только исторической конкретности, но и какого бы то ни было национального колорита.
Все это, однако, не означает, что на современной сцене капиталистических стран не создано ничего интересного и поучительного в сценическом воплощении произведений Шекспира.
В зарубежных театрах есть немало талантливых актеров и режиссеров, хранящих реалистические традиции сценического воплощения творений великого английского драматурга. Выдающееся значение приобрело исполнение роли Отелло известным американским артистом и общественным деятелем Полем Робсоном. Впервые он сыграл эту роль в 30-х годах в Англии. В США он играл Отелло в годы второй мировой войны придав своей трактовке страстную гуманистическую направленность.
Много интересных шекспировских постановок создано английским театром. Известные английские актеры Гилгуд и Оливье внесли много нового в толкование главных ролей шекспировского репертуара. Значительным успехом пользовался в Советском Союзе спектакль «Гамлет» в постановке английского режиссера Питера Брука, показанный москвичам в 1955 году; печатью зрелого и глубокого таланта отмечено исполнение роли Гамлета Полом Скофилдом — представителем младшего поколения современных английских актеров — исполнителей шекспировского репертуара.
Советский театр не только ведет активную борьбу с реакционной буржуазной фальсификацией Шекспира, но и стремится усваивать то плодотворное, что имеется в области сценического воплощения произведений Шекспира за рубежом.
Каково же было основное содержание борьбы советского театра за шекспировское наследие? Каков был основной круг проблем, которые пришлось здесь разрешить? Какова связь между этими проблемами?
В борьбе за шекспировское наследие советский театр должен был правильно раскрыть социальное содержание его произведений. Нужно было, опрокинув идеалистические концепции, доказать, что причина бессмертия творений Шекспира коренится не в том, что он якобы рассматривал в своем творчестве «вечные», «внеклассовые» проблемы и изображал человека «вообще», вне места и времени, а в том, что он как гениальный реалист глубоко отразил существеннейшие стороны своей эпохи, имевшей всемирно-историческое значение.
Иначе говоря, следовало решить проблему историзма шекспировского спектакля.
Но нельзя было правильно разрешить эту проблему, не раскрыв народности творчества Шекспира, не показав, каким образом отразилось в его творчестве положение народных масс эпохи Возрождения, их позиция в классовой борьбе того времени, не установив объективной связи между идеалами Шекспира и сокровенными чаяниями народа, не показав народности положительных героев Шекспира — носителей гуманистических идей. Раскрыть вечное, непреходящее, бессмертное в творчестве Шекспира — значило раскрыть народность его творчества, потому что бессмертно в искусстве только то, что несет на себе печать народности.
Правильное решение проблемы идейности и народности творчества Шекспира подводило и к правильному решению проблемы шекспировского реализма, ибо вопрос об отношении художника к положению и борьбе народных масс неразрывно связан с вопросом об его отношении к действительности. Только поняв, что изображение жизни у Шекспира отражало точку зрения на нее народных масс, их стремления и мечты, можно уяснить себе, почему Шекспиру удалось правдиво и с потрясающей глубиной раскрыть существеннейшие стороны и узловые противоречия эпохи Возрождения, почему ему удалось в своем творчестве подняться до критики пороков и феодального и буржуазного общества.
В своем понимании особенностей шекспировского реализма советский театр исходит прежде всего из высказываний Маркса и Энгельса. Значение этих высказываний для советского шекспироведения и театра огромно.
В своих письмах Лассалю по поводу его драмы «Франц фон Зикинген» Маркс и Энгельс указывают, что замечательной особенностью Шекспира является его способность живо, объективно, без предвзятости, не навязывая истории своих субъективных взглядов, свободно отразить действительность, сущность глубоких исторических коллизий и конфликтов. Особенно высоко они ставят способность Шекспира изображать в драмах не только то, что происходит на авансцене истории, но и то, что составляет широкий, активный плебейский фон исторического движения.
Театр Революции. «Ромео и Джульетта». Ромео — М. Астангов. Джульетта — М. Бабанова
Правильное, конкретно-историческое раскрытие шекспировской гуманистической идейности, народности и реализма — вот что составляет существенную особенность интерпретации Шекспира в советском театре, вот что определяет круг задач, стоящих перед советским театром в сценическом воплощении образов Шекспира.
В своей работе над Шекспиром советский театр опирается на передовую русскую традицию истолкования Шекспира, традицию Пушкина и Белинского, Чернышевского и Добролюбова, Мочалова и Ермоловой, Ленского и Станиславского.
Творчество великого гуманиста эпохи Возрождения всегда было близко передовым кругам русского общества. «Для нас, — говорил Тургенев, — Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и издали: он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь».
Тесная связь передового русского искусства с революционно-освободительным движением, его мощные реалистические традиции обусловили особое, выдающееся значение интерпретации Шекспира в передовой русской критике и театре. Передовые деятели русского искусства раскрывали в произведениях Шекспира то, что было созвучно идеям освободительного движения. Лучшие шекспировские постановки в России, начиная от «Гамлета» с Мочаловым в заглавной роли и кончая «Юлием Цезарем» в Московском Художественном театре, несли на себе печать освободительных идей и имели огромное общественное звучание.
* * *
Произведения Шекспира появились на сцене советского театра в первые годы революции: в 1918 году в Петрограде, в помещении цирка Чинизелли был поставлен «Макбет» с Ю. Юрьевым в заглавной роли, в 1919 году этот спектакль был заново поставлен на сцене только что организованного Большого Драматического театра; в том же театре в 1920 году были осуществлены постановки «Отелло» и «Короля Лира».
Пытаясь истолковать Шекспира с позиций революционной современности, Большой Драматический театр избрал путь романтизации «шиллеризации» Шекспира. Постановки Шекспира пронизывались пафосом абстрактного гуманизма, его герои превращались в рупоры благородных идей и лишались активного общественного фона.
Наиболее полно эта тенденция «шиллеризировать» Шекспира проявлялась в деятельности Ю. Юрьева, одного из основателей и главных деятелей Большого Драматического театра в первые годы его существования, исполнителя центральных ролей в шекспировских постановках театра. Создавая роли Макбета, Отелло, Лира, Юрьев оставался в кругу «вечных» этических и психологических категорий; сыграть Шекспира для него значило выносить в душе целый психологический трактат. Но для объяснения диалектики шекспировских характеров этого было недостаточно: они требовали глубокого социального анализа, конкретного исторического осмысления.
Творческий метод актера вступал в противоречие с реализмом Шекспира; да и сама манера Юрьева, типичного актера представления — размеренная читка, декламационный пафос, преувеличенная и статуарная пластика — выглядела в известной мере искусственной, когда он обращался к Макбету, Отелло, Лиру. Строя свою концепцию трагических характеров Шекспира, Юрьев оказывался односторонним и поневоле непоследовательным.
Актер хотел подняться до широких этических обобщений, но не мог объяснить социального смысла трагедии, которая постигает героев Шекспира, и его обобщения не получали основы. Юрьев стремился создать в шекспировских ролях большие трагические характеры, но не мог обнаружить подлинные общественные причины трагического конфликта; он искал его источник в самой душе героя и порой, как это было в его трактовке Отелло, прибегал к таким объяснениям, которые против его воли снижали трагический образ.
Юрьев создавал в шекспировских ролях мужественные характеры, которые должны были, по его мнению, будить волю к действию, к борьбе, но действительные причины трагической гибели героев Шекспира оставались для него неясными, и в его исполнении эти герои выглядели порой заранее обреченными. Таким образом, основная задача, стоявшая перед Юрьевым в ролях Шекспира — создание героических, титанических по своим масштабам образов, — была выполнена односторонне, скорее внешне, чем по существу.
В Большом Драматическом театре существовала в эти годы и другая тенденция воплощения Шекспира, представленная замечательным актером-реалистом Н. Монаховым.
Актер точной и яркой характерности, мастер строго реалистического сценического портрета, Монахов давал шекспировским образам на сцене четкую социальную характеристику, умел раскрывать их внутренние противоречия. Созданные им образы Яго и Шейлока в «Отелло» и «Венецианском купце» противостояли в своей реалистической сущности абстрактной романтике исполнения Юрьева.
Выдающуюся роль в начальный период борьбы советского театра за шекспировское наследие сыграл Малый театр.
В сезон 1919—1920 годов в Малом театре был возобновлен шедший еще до революции «Ричард III». Ричарда играл А. Южин, Маргариту — М. Ермолова. Оба они впервые сыграли эти роли еще в 90-х годах прошлого века, и можно точно установить, что нового внесла революция в их понимание трагических образов Шекспира.
Ричард III — одна из лучших ролей Южина в шекспировском репертуаре. В 90-х годах его увлекала задача показать могучий характер, обладающий несокрушимой волей и неистощимой энергией. Актер идеализировал и романтизировал выдающуюся личность, пусть изуродованную социальной средой, историческими обстоятельствами, но могучую и непреклонную в достижении своей цели.
Тенденция к идеализации образа в послереволюционном спектакле уже отсутствовала. Южин не уменьшил титанических масштабов образа. По-прежнему жила в его Ричарде огромная сила и энергия, свойственная трагическим характерам искусства эпохи Возрождения. Но Южина больше занимала теперь другая сторона натуры Ричарда: в рвущемся к власти честолюбце он подчеркнул отвратительные черты цинизма, грубости и коварства. Титаническая воля Ричарда уже не служила основанием для его, хотя бы частичного, оправдания, — наоборот, она воспринималась теперь как обстоятельство «отягчающее», потому что делала преступные замыслы честолюбца осуществимыми, его аморализм особенно опасным.
Южин беспощадно разоблачал теперь в Ричарде хищного индивидуалиста, политического авантюриста, преисполненного холодной злобы к людям, презрения ко всем нравственным ценностям, всегда готового надругаться над всем, что есть святого у человека.
Цинически грубый с людьми, когда он не видел нужды лицемерить, Ричард Южина часто кривил в презрительной усмешке тонкие губы; на его лице — бледной маске злого урода — сверкали то холодные, то полные ненависти, то недобро усмехающиеся глаза.
В 1897 году Ермолова выступила в роли старой королевы Маргариты. В старой королеве актриса видела тогда прежде всего страдающую мать, которая не имела возможности отомстить за своих погубленных детей и искала выход своему горю в неустанных проклятьях их убийцам. Маргарита Ермоловой страстно желала заставить своих врагов содрогнуться перед грядущим возмездием. И хотя, напоминая им о совершенных преступлениях, старая королева больше всего терзала себя мрачными воспоминаниями, она не уставала растравлять собственное горе и язвить убийц своих детей.
В послереволюционном спектакле зрители увидели совсем другую Маргариту. Неожиданными гранями засверкал гений великой трагической актрисы. «Трагическая сила образа осталась, — пишет в монографии о Ермоловой С. Дурылин, — но перед зрителем была теперь не мать, страдающая за своих детей, а старая королева, потерявшая власть, лишенная права казнить и миловать, прежде всего — казнить, и почти никогда — миловать».
По словам Южина, Ермолова играла теперь «зерно» шекспировского образа — потрясающую трагедию падшей власти; ее Маргарита напоминала подстреленного хищного коршуна, преисполненного непримиримой ненависти и стремления взлететь на сломанных крыльях.
Ермолова раскрывала самые сокровенные глубины шекспировского реализма. Образ Маргариты представал теперь во всей своей социально-исторической конкретности, внутренней противоречивости и обобщенности; он нес в себе огромное идейное содержание. Навсегда потерявшая власть хищница, злобная индивидуалистка Маргарита в исполнении Ермоловой понимала свою обреченность, знала, что не вернуть ей утраченных прав, и все-таки не хотела отказываться от неутолимого стремления к власти. Безжалостная и исступленная, она готова была жестоко мстить, чтобы вернуть себе власть, и мечтала о власти, как об орудии для еще более беспощадной мести. Месть ради власти, власть ради мести — таков был круг, в котором замкнулись помыслы и стремления Маргариты — Ермоловой.
Итак, что же нового внесли Ермолова и Южин в истолкование трагических образов шекспировской хроники?
Они углубили социальную характеристику этих образов. Ермолова и Южин сыграли «Ричарда III» как политическую трагедию, подчинив этическую оценку характеров общему социально-историческому смыслу хроники и ее политическому звучанию в годы революции. Они острее почувствовали суровый реализм хроники. В спектакле 1920 года Ермолова и Южин наметили одну из основных черт трактовки Шекспира в советском театре — сочетание подлинного историзма с живым чувством современности.
Закономерно, что смелыми новаторами в истолковании Шекспира выступили носители вековых традиций русского актерского искусства, старейшие актеры Малого театра, одни из тех, кто создал передовую русскую сценическую традицию истолкования Шекспира.
Выступление Ермоловой и Южина в «Ричарде III» было мудрым уроком и заветом советскому театру в его дальнейшей работе над творениями великого английского драматурга. Долгое время этот урок оставался единичным, и все-таки путь, намеченный Ермоловой и Южиным в трактовке Шекспира, оказался единственно верным и плодотворным: те же принципы, что устанавливали они в «Ричарде III», развил позже К. Станиславский в режиссерском плане «Отелло» (1930 г.), а в 1935 году, на той же сцене Малого театра Остужев в спектакле «Отелло» победоносно продолжил тот путь, который намечали его великие учителя. Но все это произошло уже в новых исторических условиях, после того как советский театр проделал большой и сложный путь в борьбе за подлинного Шекспира.
Первые годы революции оставили поучительный опыт сценического истолкования не только трагедий, но и комедий Шекспира.
В декабре 1917 года в Первой студии Художественного театра под руководством Станиславского была осуществлена постановка комедии «Двенадцатая ночь».
В шекспировской комедии, проникнутой светлым гуманизмом, радостным мировосприятием и полнокровным реализмом Ренессанса, Станиславский видел прекрасное средство борьбы с декадентскими, нездоровыми тенденциями в искусстве Первой студии. И если сатирическая направленность комедии не 12 была со всей глубиной раскрыта в спектакле, то ее жизнерадостные, фальстафовские мотивы были подчеркнуты режиссурой и ярко воплощены в образах веселой и находчивой служанки Марии (С. Гиацинтова) и остроумного, полного неистребимого жизнелюбия сэра Тоби (В. Готовцев).
Однако путь сценического истолкования комедий Шекспира, открытый Станиславским, на долгое время был заброшен; в постановках шекспировских комедий особенно длительно сказывались формалистические, вульгарно-социологические тенденции, и только во второй половине 30-х годов возрождена была та точка зрения на шекспировские комедии, которая намечалась в постановке Станиславского.
* * *
В борьбе с идеалистическими, вульгарно-социологическими концепциями советский театр выработал правильные принципы истолкования Шекспира.
Эти принципы окончательно утвердились на нашей сцене в 30-е годы, в годы торжества метода социалистического реализма в советском искусстве.
В середине 30-х годов одна за другой появляются постановки, в которых нашел свое выражение правильный конкретно-исторический подход к Шекспиру. Спектакль «Гамлет» в Государственном узбекском театре имени Хамза, «Король Лир» в Государственном еврейском театре, «Ромео и Джульетта» в театре Революции по-новому раскрывают трагедии великого драматурга. Спектакли эти поучительны не только тем, что в каждом из них дается новая трактовка трагедии Шекспира, но и тем, что каждый из них отражает определенную ступень в борьбе советского театра за шекспировское наследие. Эти три постановки появляются почти одновременно, а между тем они отмечают различные вехи в общем процессе развития принципов социалистического реализма в сценическом истолковании Шекспира.
Постановка «Гамлета» в узбекском театре имени Хамза открыла собой ряд спектаклей, в которых по-новому трактовался образ принца датского.
Театр имени Ермоловой. «Как вам это понравится». Розалинда — Л. Орданская. Орландо — Ф. Корчагин
С середины 30-х годов в советском шекспироведении и театре утвердилась концепция «сильного» Гамлета. Она выкристаллизовалась в борьбе с концепцией «слабого» Гамлета, имевшей широкое распространение в XIX веке, рассматривавшей Гамлета, как человека безвольного от природы, разъедаемого рефлексией, неспособного к активному действию вследствие перевеса у него мысли над волей.
В борьбе с этой концепцией советский театр мог опереться на солидную критическую и сценическую традицию, идущую от Мочалова, Белинского, Чернышевского.
И советский театр, действительно, опирался на эту традицию. Однако кое в чем концепция «сильного» Гамлета восприняла эту традицию односторонне, неполно. Для того чтобы понять сильные и слабые стороны теории «сильного» Гамлета, нужно еще раз обратиться к самой трагедии.
«Гамлет» — это трагедия гуманизма, обнаружившего, что общество, которое возникает на развалинах феодализма, враждебно человеку. В «Гамлете» гуманизм мужественно расстается со своими иллюзиями, выходит из состояния «младенческой гармонии» с действительностью и приходит к трагическому сомнению, поскольку еще не видит путей к искоренению зла в обществе. Миссия Гамлета заключается в обнаружении своекорыстного, эгоистического, фальшивого характера общества, где сплелись пороки феодального и буржуазного строя. Трагедия «Гамлет» отражает переломный момент в развитии гуманизма Возрождения.
Герой этой трагедии глубоко познает общественное зло. Умирая, он, как эстафету, передает тем, кто будет действовать после него, жестокую правду об обществе, которая ему досталась такой дорогой ценой. Он не останавливается ни перед чем, чтобы обнаружить и разоблачить зло, чтобы тайное, лицемерно скрытое в обществе, сделать явным. Но пути борьбы со злом для него неведомы. Поэтому его познание трагично и не приносит ему успокоения. Гамлет не боится идти до конца в познании зла, в разоблачении общественных противоречий, но чем дальше он идет в своем познании, чем настойчивей ощущает он необходимость искоренить зло, избавить человечество от моря бедствий, чем шире становится круг явлений, с которыми ему предстоит вступить в борьбу, тем меньше у него оснований полагать, что он сможет выполнить свою задачу. Познание зла не дает Гамлету оружия для борьбы с ним, оно не облегчает, а затрудняет эту борьбу.
Уже умирая, Гамлет называет мир, который он оставляет, «суровым». Он уходит от жизни неумиротворенным, понимая, что ему не довелось разрешить задачи, которую он перед собой поставил.
Духовная трагедия Гамлета обусловлена в конечном счете не теми или иными свойствами его натуры, — она отражает объективно-историческую трагедию гуманизма на определенном этапе его развития.
В трагедии «Гамлет» отразились сильные и слабые стороны целого поколения гуманистов — современников Шекспира: понимание коренных пороков эпохи и незнание путей для борьбы с ними, способность взглянуть на противоречия действительности с точки зрения народных масс и непонимание того, что народ есть творец истории.
Поэтому, когда мы говорим о народности образа Гамлета, нужно помнить, что народность эта ограничена.
Гамлет ополчается против бедствий, от которых страдает и народ. Гуманистические идеалы, в защиту которых он восстает, отражают чаяния народных масс, но свою борьбу со злом Гамлет ведет как одиночка, за свой страх и риск, один на один. Поэтому Гамлет силен, когда нужно мужественно идти до конца по пути познания противоречий действительности, но он становится слабым, начинает колебаться, как только речь заходит о необходимости вступить в борьбу с враждебным ему обществом. Гамлет чувствует, что один, своими силами, он не одолеет моря бедствий, но для него возможна только одна форма борьбы со злом — поединок, сражение один на один.
Правильным в концепции «сильного» Гамлета было то, что она глубоко и правильно раскрывала сильные стороны Гамлета; уязвимость этой концепции заключалась в том, что она замалчивала его слабости.
Обе стороны этой концепции сказались в сценическом воплощении Гамлета на советской сцене. Впервые они дали себя знать в постановке узбекского театра имени Хамза.
В режиссерской экспозиции Уйгура и Бабаходжаева настойчиво проводилась мысль о том, что театр в работе над «Гамлетом» должен строго придерживаться принципа историзма, что незачем поднимать Гамлета «выше истории»; постановщики стремились, исходя из конкретно-исторической социальной коллизии, подняться до обобщений, которые были бы созвучны современности.
Образ Гамлета рисовался театру как образ узника, яростно трясущего решетку своей темницы.
По мнению режиссуры, в борьбе, которая завязывалась в трагедии, активная, наступательная роль принадлежит Гамлету, а не его врагам.
В соответствии с этим строил свою трактовку образа Гамлета Абрар Хидоятов. Его Гамлет был страстным и неукротимым борцом. Он легко воспламенялся, а воспламенившись, готов был броситься на своих врагов и биться, пока станет сил. Мучительней всего было для него выжидать, сдерживать свою ненависть, прятать свои истинные чувства. Зато с каким наслаждением он смеялся в лицо Клавдию, когда тот, разоблачая себя, бежал со спектакля бродячих комедиантов!
Этому Гамлету, худому и высокому юноше, с подвижным лицом и живым, доброжелательным взглядом, меньше всего пристала бы ходульная декламация и холодная псевдотрагическая патетика. Хидоятов не побоялся придать своему Гамлету в первых сценах спектакля черты обыденности. Когда он впервые появлялся перед зрителями, ничто не предвещало в его Гамлете трагического героя. Но постепенно в этом скромном и пылком студенте, по-юношески еще не очень складном, раскрывалась натура волевого борца, готового до конца сражаться за свои идеалы.
Однако Гамлету Хидоятова не хватало философских раздумий, колебаний, борьбы с самим собой. Хидоятов был чересчур порывист и импульсивен. «...Слишком часто размышления Гамлета прорываются взрывами необузданного темперамента. Страстность его желаний проявляется в пылкости его поступков», — писала тогда об образе, созданном Хидоятовым, газета «Советское искусство». Образ, созданный Хидоятовым, получился двойственным: живой и искренний, его Гамлет становился холодным и сухим в монологах, которые требовали большой сосредоточенности и философской глубины. Хидоятова волновала героическая и неравная борьба Гамлета с фальшивым и эгоистическим обществом, сомнения и колебания Гамлета оставляли актера равнодушным. Трагедию Гамлета Хидоятов видел только в его одиночестве, в необходимости вести неравный бой «с превосходящими силами противника».
Рядом с образом волевого, импульсивного Гамлета Хидоятова стоял в спектакле узбекского театра лирический образ Офелии — Ишантураевой — один из лучших шекспировских образов, созданных на советской сцене.
Офелия Ишантураевой была беспомощной жертвой того мира, страстным борцом против которого выступал Гамлет Хидоятова. Ее слабость и хрупкость оттеняли мужественную решимость и неукротимость Гамлета — Хидоятова.
Эльсинор с его лицемерным этикетом, интригами, корыстными расчетами был ей так же чужд, как и Гамлету. Как это часто бывает с робкими пассивными людьми, вынужденными жить среди тех, кто их не понимает, она замкнулась в себе. Это не было сознательным актом обороны — для этого Офелия Ишантураевой была слишком юной и простосердечной — она действовала инстинктивно. Только Гамлета выделяла она из постылой реальности Эльсинора — Гамлет казался ей воплощением ее давней, полудетской мечты о сказочном принце, совсем не похожем на холодных и скучных обитателей дворца.
Любовь к Гамлету пробудила в ней — почти девочке — женственность, обаяние, мягкость, зажгла в ее печальных глазах огонек счастья. Кроме Горацио, она одна чувствует, как одинок в Эльсиноре Гамлет, и это возвышает в ее глазах собственную любовь.
Офелия Ишантураевой сходит с ума не потому, что умер ее отец, а от трагического сознания, что она становится орудием в борьбе против единственно близкого ей человека. Она слишком робка, чтобы ослушаться отца, и слишком чутка и честна, чтобы не понять, какую постыдную роль ей приходится играть.
Сарра Ишантураева вложила в образ Офелии свой жизненный опыт и высокую идейную устремленность советской узбекской актрисы.
Трагедия Офелии не могла не напомнить ей недавнюю судьбу узбекской женщины, которую феодальные обычаи делали безропотной рабой мужчины. Для Ишантураевой, в детстве испытавшей на себе гнет вековых обычаев, а в четырнадцать лет пошедшей наперекор им и, вопреки воле родителей, уехавшей учиться в Москву, в театральную студию, судьба Офелии воспринималась как обвинительный акт миру, бывшему когда-то для нее и для миллионов других женщин Востока страшной реальностью. Трагическая судьба ее хрупкой и трогательной Офелии, не нашедшей в себе силы противостоять авторитету освященных веками обычаев, не сумевшей вступить в борьбу с бесчеловечным миром Полония и Клавдия, убеждала в пагубности пассивности и смирения и еще раз оправдывала страстную ненависть к этому миру и мужественную борьбу с ним Гамлета — Хидоятова.
После спектакля узбекского театра появилось еще несколько постановок Гамлета, получивших широкую известность: постановка Н. Собольщикова-Самарина в Горьком (1936 г.), две постановки В. Бебутова — в Воронеже (1941 г.) и в Витебске (1946 г.), спектакль в Государственном армянском драматическом театре имени Сундукяна (1942 г.).
Однако все эти спектакли представляли собой тот или иной сценический вариант концепции «сильного» Гамлета. Различия, которые, бесспорно, существуют между Гамлетом — Хидоятовым, Гамлетом — Поляковым (Государственный Воронежский драматический театр), Гамлетом—Молчановым (Белорусский драматический театр имени Якуба Коласа) и Гамлетом — Вагаршяном (театр имени Сундукяна), не столь значительны, чтобы вывести хоть одного из них за пределы этой концепции. Начало новому этапу в сценической истории «Гамлета» было положено постановкой, осуществленной в 1954 году Н. Охлопковым в театре имени Маяковского.
* * *
Глубокое впечатление на современников — людей 30-х годов — произвел образ Короля Лира, созданный Михоэлсом в спектакле ГОСЕТ.
Михоэлс по-новому истолковал «Лира». Он увидел в нем не трогательную трагедию обманутых отцовских чувств, не дидактическую историю о бедствиях и гибели государя, отдавшего свой престол, а трагедию познания социальных противоречий действительности. В образе Лира Михоэлс показывал крах индивидуалистического мировоззрения и рождение нового, правильного взгляда на мир. Поведение Лира в каждой отдельной ситуации актер осмысливал, исходя из основных черт мировоззрения Лира; из каждого положения, в которое попадал трагический герой, он делал глубокие выводы, всегда доводя их до логического конца.
Михоэлс был беспощаден к Лиру, когда разоблачал его индивидуализм, его культ собственной личности. Он показывал, что самодержец Лир пришел к фетишизации своей личности, к противопоставлению себя всем другим людям и объективным законам действительности.
Вместе с тем с самого начала актер раскрывал двойственность и противоречивость натуры Лира: сочетание безмерного индивидуализма, вздорного, жестокого самодурства и глубокой человечности, скепсиса и пытливого ума, цинизма и духовной чистоты. Показывая Лира как человека, полного глубоких противоречий, Михоэлс давал понять, что, во-первых, индивидуализм Лира есть не изначально данная черта его характера, а результат влияния определенных общественных отношений, и, во-вторых, что сама эпоха, породившая столь противоречивый характер, должна была нести на себе печать двойственности. Тем самым образ короля Лира погружался в историческую атмосферу Возрождения, и его личные качества получали историческое объяснение.
Исполнение Михоэлса убеждало, что именно двойственность натуры Лира делала возможным его перерождение. Вместе с тем актер подчеркивал, что для того, чтобы это перерождение осуществилось, Лир должен был пройти долгий путь страданий, потрясений, разочарований. Актер не хотел ни облегчать путь Лира в познании противоречий действительности, ни сокращать этот путь. Процесс перерождения Лира он изображал как процесс трагический, полный муки и страдания. Лейтмотивом его исполнения была фраза: «Я ранен так, что виден мозг». Актер стремился показать всю мучительность высвобождения человека из-под власти ложной идеологии, из-под власти культа собственной личности. Трагедию Лира Михоэлс видел не только в том, что истина достается Лиру ценой жестоких потрясений, но и в том, что она приходит к нему слишком поздно. Михоэлс не боялся обнажить страдания Лира, потому что видел их конечную цель — познание правды. Как бы ни были мучительны отдельные этапы пути его Лира, он не вызывал жалости: ведь каждый этап раскрывал ему глаза на новые стороны жизни, помогал разрывать пелену ложных представлений, заставлял еще более напряженно работать его страстную мысль.
Лир у Михоэлса не погружался в зрелище своих душевных ран, он пытливо всматривался в открывающийся перед ним новый мир. Актер играл не старость и угасание, не ослабление духа и смерть, а рождение человека заново.
«Что же, к старости шел Лир? — спрашивал Михоэлс и отвечал сам себе. — Нет, к юности, к обновленному мировоззрению, к новым основам более здравого, более правдивого миропонимания. Поэтому Лир от акта к акту крепнет, а не теряет силы».
Театр имени Ермоловой. «Как вам это понравится». Одри — Э. Кириллова
В спектакле ГОСЕТ вместе с образом Лира — Михоэлса внимание зрителей неотступно привлекал шут — Зускин. Зускин создал образ полный глубокой народности, образ одновременно комический, эксцентрически заостренный и мягкий, лирико-драматический.
Как вихрь, врывался он на сцену, ловко, словно акробат швырял свое тело из одного конца тронного зала в другой, забирался с ногами на трон, поддразнивал короля. С эпизода раздела королевства он становился неразлучен с королем, превращаясь как бы в зеркало, в котором тот видит свое подлинное лицо.
В шуте Зускина воплощалась совесть народная, которая язвила Лира, болела за него, пробуждала в нем подлинно человеческие качества.
* * *
Из трех спектаклей начала 1935 года — «Гамлет» в театре имени Хамза, «Король Лир» в ГОСЕТ и «Ромео и Джульетта» в театре Революции — последний спектакль получил наиболее широкое общественное звучание, особенно в среде молодежи. Театр Революции посвящал свой спектакль комсомолу. В трагической истории двух веронских влюбленных, поэтически рассказанной Шекспиром, театр увидел нечто такое, что имеет глубоко современное значение.
В гибели Ромео и Джульетты театр, в отличие от многих буржуазных истолкований, не видел роковой неизбежности или пустой случайности. В еще меньшей степени хотел он признавать за смелыми влюбленными, нарушившими общепринятые в обществе обычаи, наличие «трагической вины», как это делали шекспироведы-идеалисты.
Театр бросал обвинение в гибели Ромео и Джульетты окружающему их феодальному обществу с его обветшавшими бесчеловечными обычаями и устоями.
То, что Дездемона потеряла платок, — случайность, то что посланец отца Лоренцо не попал к Ромео — случайность, но не случайна трагедия Отелло и Дездемоны, Ромео и Джульетты в мире, полном вражды и раздираемом противоречиями.
К пониманию этого и должна была подготовить зрителя первая сцена спектакля.
...Раннее утро в Вероне. Строгие контуры палаццо медленно окрашиваются нежным светом зари. В оркестре звучит мирная мелодия рассвета. Лучи солнца проникают под арку, рассеивают предутреннюю мглу и освещают уголок Вероны: широкую лестницу, ступени которой поднимаются между двумя домами и уходят под арку; за аркой видны суровые очертания крепостных башен и тонкие ветви деревьев.
Слуги двух враждующих знатных семейств — Монтекки и Капулетти нехотя вытаскивают из ножен шпаги. Дерутся они больше для виду, исполняя ненужную и порядком надоевшую им обязанность. Но когда выскакивает на сцену Тибальд и яростно набрасывается на Бенволио, бой становится нешуточным. Заслышав звон клинков, выбегают на улицу обитатели обоих враждующих домов и скрещивают оружие. Холодная, застарелая злоба дерущихся делает этот бой безмолвным.
Когда вся широкая лестница заполняется дерущимися, наверху ее появляется златокудрый юноша в алом плаще. Порывистый и бездумный, как сама юность, летит он с обнаженной шпагой вниз, в самую гущу боя И здесь натыкается на клинок грубого рубаки-бородача. Дерущиеся через плечо оглядываются на первую жертву бессмысленной схватки и через мгновенье, еще больше ожесточившись, словно звери, почуявшие кровь, бросаются друг на друга.
Сцена боя была точной, исторически достоверной картиной феодальной распри и одновременно страстной филиппикой режиссера против феодального мира.
Нежные краски рассвета, спокойные линии веронских палаццо, тонкие ветви деревьев — все это протестовало против внезапно возникшего звона оружия, против взрыва жестоких и кровавых страстей.
И когда появлялись горожане, мастеровые люди, те, кто строил этот прекрасный город, и палками с длинными, тяжелыми мешочками на концах колотили налево и направо сторонников и Монтекки и Капулетти, — это воспринималось как нечто очень справедливое и разумное.
Уже в первой сцене возникала основная тема спектакля — столкновение благородных, естественных человеческих стремлений с феодальной враждой. Восстание Ромео и Джульетты против феодальной морали и родовой вражды во имя своей любви объективно смыкалось в спектакле с борьбой горожан против феодальных раздоров и получало поэтому особенно глубокое историческое оправдание.
Театр Революции правильно осмыслил и творчески воспринял мысли Маркса и Энгельса о значении общественного фона у Шекспира. Батальные сцены в постановке были не эффектным обрамлением любовной новеллы, а той почвой, на которой вырастала трагедия Ромео и Джульетты. Не трагическая вина героев и не случайное сцепление обстоятельств, а феодальная вражда сразила безымянного златокудрого юношу, Меркуцио, Ромео и Джульетту.
Любовная трагедия получала эпический размах и широкое героическое звучание. И когда в финале, в холодном склепе собирались люди, чтобы взглянуть на мертвых Ромео и Джульетту, а за тяжелой чугунной решеткой склепа постепенно начинали вырисовываться в теплом свете новой зари те же тонкие ветви деревьев, которые виднелись за аркой в первой сцене спектакля, рождалось ощущение, что жизнь неистребима, что трагическая судьба Ромео и Джульетты лишь один из эпизодов в долгой и неугасимой борьбе против бесчеловечного общества.
Своим исполнением М. Астангов сломал шаблон буржуазного представления о Ромео. Мужественный и суровый, его Ромео был полон глубоких раздумий и суровой решительности. Бросая вызов феодальным традициям, он понимал, какую тяжелую борьбу предстоит выдержать ему и Джульетте.
Астангов писал, что Ромео и Джульетта — своеобразные бунтари, поднимающие, пусть только на языке чувств, свой протест против освященных веками традиций вражды между домами Монтекки и Капулетти.
Однако в своей полемике с традиционными представлениями о Ромео Астангов кое в чем зашел слишком далеко, придав своему герою черты гамлетовской меланхолии и трагизма.
В Джульетте М. Бабанова уловила черты, в чем-то роднящие шекспировскую героиню с сыгранными ею раньше советскими героинями — душевную цельность, активность, стойкость в борьбе.
Бабанова не модернизировала Шекспира. Ее Джульетта была подлинным человеком Возрождения. И если Астангов забегал вперед и в Ромео усматривал черты Гамлета, то Бабанова с точки зрения истории была исключительно точна. На ее Джульетте лежал отблеск зари. Возрождения, когда только разгорались краски нового дня, когда наступающий день казался безоблачным, солнце ярко сияло, а остатки туч виднелись только на том краю неба, где отступала средневековая ночь.
Бабанова утверждала в Джульетте красоту гармонической, цельной и простой натуры, которой не знакома раздвоенность, запутанность или половинчатость чувств, которая не знает разрыва между страстью и мыслью, стремлением и действием, она создала образ, воплощавший собой зарю Возрождения, и нашла в этом образе черты, близкие нашей современности.
Значение спектакля «Ромео и Джульетта» в театре Революции заключается в том, что он завершает важный этап борьбы советского театра за шекспировское наследие, этап, обнимающий первую половину 30-х годов.
В этом спектакле театра Революции правильно и глубоко раскрывалось конкретно-историческое содержание трагедии Шекспира.
Понимание народности гуманистических идей, защищаемых Ромео и Джульеттой, помогло театру увидеть их объективную враждебность не только уходящему феодальному миру, которому они непосредственно противопоставлены в трагедии, но и будущему буржуазному обществу с его торгашеской и лицемерной моралью. Спектакль утверждал духовную красоту и величие волевого, цельного человека, готового мужественно сражаться за свои высокие идеалы. Спектакль утверждал красоту и силу любви, свободной от корыстных расчетов, эгоистических побуждений, идущей наперекор реакционным традициям и воззрениям.
Таким образом, правильное решение в спектакле проблемы историзма в подходе к Шекспиру оказалось тесно связанным с правильным решением проблемы создания классического спектакля, созвучного нашей современности.
Выдающимся событием в истории создания шекспировских образов на советской сцене стало выступление А. Остужева в роли Отелло (1935 г.).
К своему истолкованию Отелло Остужев шел, ломая широко распространенные представления об этом шекспировском образе. С юных лет он внимательно изучал игру современных ему иностранных и русских трагиков в роли венецианского мавра, в том числе игру Сальвини и Росси. Больше того, с Сальвини — прославленным исполнителем этой роли — он встретился на подмостках как партнер. В гастрольном спектакле, где великий итальянский трагик играл Отелло, молодой Остужев исполнял роль Кассио. У Остужева уже тогда сложилось свое представление об Отелло — с детских лет он был страстно увлечен трагедией венецианского мавра, и то, что он увидел, его не удовлетворило. Начинающий актер Малого театра восхищался огромным талантом многих из увиденных им исполнителей роли Отелло, он учился у них высокой профессиональной технике, удивлялся строгой последовательности, с какой они осуществляли свой идейный замысел, но самый замысел не удовлетворял его. Но даже могучий гений Сальвини не смог заставить Остужева принять чуждую ему трактовку любимой роли.
«Сальвини в роли Отелло был великолепен, — вспоминал Остужев. — Потрясал его изумительный глубокий голос. Отелло у Сальвини был мощный лев, им нельзя было не восхищаться, а в пятом акте его нельзя было не бояться. Но меня занимало в шекспировском мавре другое — я хотел так раскрыть его благородную душу, чтобы люди полюбили Отелло так же горячо и интимно, как с юных лет любил его я».
Обычно считают, что спор Остужева «с каноническим» истолкованием Отелло заключается в том, что вместо трагедии ревности он играл трагедию доверия. Это не совсем точно — предмет спора был гораздо шире. Сам Остужев отмечает другой пункт своего расхождения с традиционным истолкованием Отелло. Указывая на то общее, что было в игре у известных ему исполнителей роли Отелло, Остужев пишет: «Весь образ его давался огромными штрихами; все в нем было большое, тяжелое, массивное: движения, голос, костюм, самые страсти тоже были большие и пышные, но не вызывавшие во мне симпатий к Отелло».
Остужев, как и Станиславский, не принял такого понимания героического, которое в сценическом истолковании Отелло приводило к известному отрыву судьбы человеческой от судьбы народной, к созданию вокруг сильной личности ореола исключительности.
Была глубокая закономерность в том, что Остужеву, ближайшему ученику Ленского, ученику и партнеру Ермоловой, наследнику традиций героического искусства Малого театра оказались чуждыми черты индивидуализма в широко распространенной на Западе сценической интерпретации Отелло. В этом проявилась одна из важнейших особенностей русского актерского искусства. Героическому искусству Малого театра, искусству Мочалова и Ермоловой, традиции которого унаследовал и свято хранил Остужев, было глубоко чуждо индивидуалистическое истолкование героя и героического, противопоставление «героя» «толпе».
Образ Отелло, созданный Остужевым, уходил своими корнями в глубочайшие пласты русской культуры, и вместе с тем он мог появиться только в советское время и мог быть создан только советским художником.
Театр имени Вахтангова. «Много шума из ничего». II акт
Глубокий оптимизм, пронизывавший трактовку образа Отелло у Остужева, вытекал из радостного сознания, что в нашей стране получили осуществление сокровенные, многовековые чаяния народных масс. «Сейчас, — с гордостью писал Остужев, — я ощущаю мир пришедшим, наконец, после тысячелетий в свое нормальное состояние.
Сейчас я ощущаю человеческий героизм как бы разлитым повсюду в воздухе, которым я дышу».
Создавая образ своего Отелло, актер вчитывался не только в строчки шекспировского текста, но и в гневные сообщения газет о зловещих кострах, на которых фашисты жгли книги, о зверствах куклуксклановцев и судах Линча.
Выступая в роли Отелло, Остужев поднял свой голос в защиту передовой культуры от фашистского варварства, в защиту человека от расовых преследований; своей трактовкой образа шекспировского мавра он утверждал оптимистическую веру в человека, отстаивал принципы высокого благородства и кристальной чистоты человеческих отношений.
Радостное, оптимистическое восприятие героической советской действительности, вера в непобедимость идей социализма и страстная ненависть к бесчеловечному капиталистическому миру — вот что определило общественно-политический пафос образа Отелло у Остужева.
Отелло Остужева — подлинный представитель титанов Возрождения. Когда нужно, он прекрасно владеет мечом и становится грозным начальником. Но воинская профессия — вовсе не главное в нем. Главным в Отелло для Остужева было то, что тот — подлинный гуманист эпохи Возрождения.
...Гибкая, юношески стройная фигура, гордо поднятая голова и спокойно соединенные руки. Небольшая борода смягчает овал тонкого лица, которому придают глубокую одухотворенность задумчивые, устремленные куда-то далеко глаза. Вся фигура мавра окутана в белое, гладкая белая чалма оттеняет бронзовое лицо. Таков облик Отелло — Остужева. В этом мавре нет ни подчеркнутой африканской экзотичности, ни генеральского великолепия. Непохож он и на тех властных, полных грубой силы итальянских кондотьеров, наемных полководцев по профессии, чьи образы запечатлены в скульптурах Донателло и Вероккио.
Он скорее напоминал поэта или мыслителя Возрождения. Это впечатление усиливалось, когда начинали звучать напевные, мягкие интонации прекрасного голоса Остужева. «Если бы он не был воином, он был бы у себя на родине поэтом. Наверно много великолепных и трогательных народных легенд своей страны знает этот человек со смуглым лицом и в белой чалме. По наружности он не обязательно "воин"», — так описывает Отелло Остужева известный советский шекспировед М. Морозов.
Остужев конкретизировал и развил в правильном направлении пушкинскую концепцию образа Отелло.
Остужев сумел понять и показать зрителю, что доверчивость Отелло есть проявление не первобытной патриархальной наивности, а высоких гуманистических представлений о человеке, твердой убежденности, что от природы человек склонен к добру. Отелло Остужева был не ниже, а выше венецианцев по своей культуре. Отелло у него не простодушный варвар среди цивилизованных венецианцев, а гуманист среди низменных хищников. Отелло — Остужев казнит Дездемону не в порыве возмущенной ярости — убийство Дездемоны он воспринимает, по словам Остужева, как необходимое звено в служении человечеству.
В Дездемоне Отелло — Остужев видит олицетворение духовного благородства и красоты человека. Он самозабвенно, как юный Ромео, нежен с Дездемоной, но он умеет и взглянуть на нее со стороны, чтобы еще и еще раз полюбоваться ее совершенством.
Людям Возрождения было в высокой степени свойственно сознание единства этического и эстетического идеала. И Остужев тонко передал это в своем Отелло. Для его мавра в красоте возлюбленной заключено очень многое и прежде всего это свидетельство ее духовного совершенства и чистоты. Поэтому так мучительно переживает он впоследствии сознание того, что красота Дездемоны скрывает зло и порок.
Дездемона — оправдание и подтверждение всей его жизни, борьбы, веры в человека. Поэтому с такой нежной и печальной задумчивостью он произносит:
...я люблю тебя, а разлюблю —
Вернется хаос.
Первые слова Яго, обвиняющего Дездемону в неверности, он не слушает, видя перед своим внутренним взором ушедшую Дездемону.
Начинается упорная борьба с Яго, в которой надежда перемежается с подозрениями. Мавр смело идет навстречу ударам Яго, добиваясь одного — ясности. А Яго продолжает сыпать сомнительными афоризмами, которые должны сделать естественными самые худшие открытия:
...Честность
Не в непорочности, а только в тайне.
Отелло охватывает ужас:
— Что говоришь ты? —
раньше он спрашивал это чуть брезгливо, теперь в его голосе открытый ужас, — Яго заставил его заглянуть в пропасть, на дне которой копошатся чудовища, и он, измученный этим видением, отшатывается. Упоминание о Дездемоне снова возвращает ему силы.
Страстно отрицает Отелло мысль о ревности и, успокоившись, прогнав зловещие тени, уверенно, напевно скандирует:
— Я знаю, не-по-ро-чна Дездемона.
Жестом нетерпения и муки он почти гонит прочь Яго, но когда тот уходит, со жгучим стыдом выдавливает вдогонку ему приказание — через Эмилию следить за Дездемоной — и, потрясенный, закрывает лицо руками. Мавр ждет, пока замолкнут шаги Яго, и тогда долго и громко стонет. Он ни в чем не винит Дездемону и, облегчая свою душу милосердием, готовится распроститься с ней и отпустить ее на волю.
Протягивая вперед руку словно бережно выпуская птицу, Отелло со светлой печалью, напевно, кристально чистым голосом начинает монолог прощания.
Если одичал мой сокол,
Хоть путы — струны сердца моего,
Я отпущу тебя... —
Остужев произносил монолог в плавном ритме, одна фраза, как волна, накатывалась на другую... и вдруг — громкий? всплеск, как будто волны разбились о скалу. Взгляд Отелло падает на собственные руки, которые, выпустив сокола, медленно и скорбно опускаются вниз:
— Черный я? — но в интонации Остужева нет вопроса.
«"Черный я"... — сколько муки в этих тихо произнесенных словах, сопровождаемых простым и естественным движением — легким похлопыванием по рукам. Но в этом движении видно, что Отелло уже другой. Его сила, твердость исчезли», — пишет С. Игнатов.
В трагедии Отелло Остужев выделил мотив расового неравенства. Его мавр окончательно поверил в возможность измены Дездемоны только тогда, когда вспомнил о той границе, которую общество поставило между ним, черным человеком, и белой патрицианкой Дездемоной.
Остужев понимал, какое важное общественно-политическое значение приобретала эта тема в 30-х годах. «Огромная политическая задача актера, — говорил Остужев, — заключается здесь в решительной атаке против шовинистических инстинктов белых зверей. Это может быть достигнуто только при условии внутренней чистоты Отелло. Не внутренне чистый черный Отелло, а грязный мир белых Яго убил Дездемону, убил Отелло и сотни им подобных, вот что хочу я крикнуть на весь мир силой присущих мне артистических возможностей».
В. Тхапсаев в роли Отелло
Остужев раскрыл цельность натуры Отелло, для которого личная трагедия стала началом переосмысления всех представлений о жизни. Дездемона — совершенное создание, и если даже она могла изменить, оказалась лживой, значит все его представления о мире были иллюзорными.
Остужев сумел глубоко раскрыть широту мысли шекспировского героя, его титанизм, которые уже сами по себе исключают возможность замкнуть «Отелло» в рамки узко личной, семейной трагедии.
Личное потрясение служит у шекспировских героев толчком ко все более широким обобщениям по поводу судеб человека и общества. Их мысль гибка и всеобъемлюща, они умеют сопоставлять и обобщать частные факты, свою личную судьбу они не могут воспринимать в отрыве от судьбы общества в целом.
Отелло не может примириться со злом, все его существо требует наказания несправедливости. И хотя рухнули его иллюзии, он чувствует себя обязанным избавить мир — пусть он жесток и бесчеловечен — от страшного зла—лживой порочной женщины в образе ангела. Поэтому с решением убить Дездемону к нему возвращается спокойствие.
Перед спящей Дездемоной он в последний раз взвешивает необходимость ее убийства:
Причина есть, причина есть, душа...
Сосредоточенно и тихо начинает Остужев. Отчетливо выделяет он слово «душа», словно хочет обратиться к кому-то, кто является независимым и беспристрастным судьей. Отелло объективизирует свои доводы, он старается, чтобы ни одна капля его страданий, обиды не примешалась к его разумным и справедливым суждением:
Но умереть она должна — других обманет.
Он произносит это без всякой аффектации, это вне его желания, — его любовь, ревность не имеют к этому никакого отношения. Отелло знает, что не зажечь снова светильника, который он сейчас погасит, но уже не в его власти пощадить Дездемону. Ему безумно жаль ее, но он твердо знает, что должен делать.
«Здесь, в этом монологе, — говорит Остужев, — все мои стремления сосредоточены в одном: в желании показать перед судьями зрительного зала всю внутреннюю чистоту Отелло, особенно в этот момент. Отелло не убивает Дездемону; он уничтожает источник зла...»
Остужев перевернул традиционные представления об Отелло. Не об устрашающей ревности, не о жестокой семейной трагедии повествовал Остужев в роли Отелло, а о судьбах гуманизма, о борьбе человека кристальной душевной чистоты с грязным миром эгоизма и лицемерия.
Развивая пушкинскую концепцию образа, Остужев объяснил доверчивость Отелло как следствие его высокого гуманистического представления о человеке. Поэтому он наделил своего мавра тонким интеллектом и высокой культурой. Уязвимость Отелло Остужев видел не в необузданности чувства, не в первобытной наивности (всего этого не было в созданном им образе), а в известной абстрактности его гуманизма.
Остужев правильно раскрыл титанизм натуры Отелло. Он отверг то истолкование титанизма шекспировского героя, которое приводило к романтизации выдающейся личности, к противопоставлению «героя» «толпе», к восприятию титанизма героя как проявления его исключительности.
Остужев показал многосторонность натуры Отелло. Его мавр был философом по складу ума, поэтом по тонкости ощущения и воином по профессии. Отелло — Остужев принадлежал к тем героям своей эпохи, которые, по словам Энгельса, умели бороться и пером, и словом, и мечом. Остужев показал, что свою личную судьбу Отелло воспринимает в неразрывной связи с судьбой человеческой, с судьбой народной. Именно поэтому, убивая Дездемону, он действовал во имя человечества, а узнав о ее невинности, от лица человечества же совершил суд над самим собой.
Отелло — Остужев чувствовал себя ответственным за судьбу общества и народа. Титанизм этого образа был неразрывно связан с его народностью. Героическое начало образа было наполнено высоким социально-этическим содержанием.
Так в советское время осуществил Остужев свою давнюю мечту — сыграть Отелло так, чтобы, оставаясь могучим героем, он стал интимно близок людям, чтобы они полюбили его.
Выступление Остужева в роли Отелло явилось решающим и центральным этапом утверждения принципов социалистического реализма в сценическом воплощении образов Шекспира.
Глубоко раскрыв гуманистические идеи трагедии, ее народность, Остужев показал всю несостоятельность как утверждений буржуазной критики о том, что Шекспир вечен потому, что посвятил свое творчество рассмотрению «вечных» страстей человеческой души, не зависящих ни от какой эпохи, так и мнения вульгарных социологов о классовой узости Шекспира, о том, что его произведения устарели и имеют для нас чисто познавательный и узко исторический интерес.
Исполнение Остужевым роли Отелло стало событием большого общественно-политического значения. Грандиозный успех спектакля «Отелло» в Малом театре свидетельствовал о том, что в нем нашли отзвук важные общественные проблемы, волновавшие советских людей.
Советский зритель горячо сочувствовал мощно звучавшему в игре Остужева утверждению веры в человека, в его достоинство, благородство, в справедливость гуманистических идеалов, он разделял и ненависть актера к человеконенавистническим идеям расового неравноправия, к стремлениям отдать человека во власть звериных инстинктов.
* * *
Влияние Остужева на шекспировские спектакли, появившиеся после его выступления в роли Отелло, исключительно велико.
Принципы воплощения шекспировских характеров, лежавшие в основе созданного им образа, были восприняты и усвоены всем советским театром потому, что они раскрывали существо советской трактовки Шекспира. Эти принципы сохраняли свою жизненность и правильность не только при постановках «Отелло», но и при воплощении других трагедий Шекспира и его комедий. Однако спектакль «Отелло» в Малом театре и дальнейшая судьба Шекспира на нашей сцене показали, что именно эта трагедия была ближе всего советскому театру и зрителю 30-х годов, да и до сих пор «Отелло» остается наиболее популярным у нас произведением Шекспира.
Усвоение принципов социалистического реализма в постановке произведений Шекспира, столь ярко воплощенных в игре Остужева, не только не привело к единообразию в многочисленных спектаклях «Отелло», не только не сковало инициативу отдельных театров, но, наоборот, открыло каждому из них путь к свежему, оригинальному прочтению трагедии.
В роли венецианского мавра с успехом выступили Н. Мордвинов, Г. Нерсесян, М. Касымов, Г. Цыденжапов, А. Хидоятов, А. Алекперов, и каждый из них внес нечто свое, новое в исполнение этого шекспировского образа.
Среди многочисленных постановок «Отелло», появившихся после выступления Остужева в роли венецианского мавра, большой интерес представляет спектакль грузинского театра имени Руставели (1937 г.).
Усвоив те основополагающие принципы подхода к Шекспиру, которые были выработаны всем советским театром, руставелиевцы создали свою оригинальную трактовку «Отелло».
Если у Остужева Отелло — философ, поэт, учитель, то у А. Хоравы он прежде всего боец, военачальник.
Для Хоравы воинские черты в характере Отелло стали ключом к постижению народности созданного Шекспиром образа и определенным образом окрасили всю трагедию Отелло. В венецианском военачальнике Отелло актер разглядел черты, которые роднят его с героями народного эпоса, благородными, верными и храбрыми витязями, защитниками своей страны и своего народа. Есть в Отелло, созданном Хоравой, что-то близкое могучим и безупречным героям «Витязя в тигровой шкуре». В этой, тонко почувствованной актером связи шекспировского героя с легендарными героями народного эпоса — объяснение монументальности и титанизма созданного им образа. Титанизм Отелло Хорава истолковал как выражение глубокой народности образа, как отражение в нем тех черт, которыми народ наделял своих легендарных защитников и военачальников.
Если верно предположение, что Отелло Остужева у себя на родине был бы поэтом, то Отелло Хоравы и у своего народа был бы полководцем, военачальником, защитником самых дальних и самых опасных границ.
Отелло — Хорава — по натуре борец, поэтому самое ценное для него в человеке — мужество и верность, самое страшное — предательство.
В отношении Отелло — Остужева к Дездемоне было нечто от учителя, любующегося своей ученицей, Отелло — Хорава чтит Дездемону как верную соратницу в борьбе.
Дездемона совершила самое тяжкое из всех преступлений — она предала. Финал для Хоравы — суд над воином, изменившим клятве и общей борьбе за передовые идеалы.
Так, неожиданно на первый взгляд, мощно прозвучала в трагедии тема неминуемого возмездия за измену передовым общественным идеалам, тема, впервые обнаруженная в «Отелло» Мочаловым.
Такое истолкование главного мотива трагедии глубоко раскрыло одну из центральных идей творчества Шекспира в период написания им великих трагедий — призыв сохранить верность гуманистическим идеалам в надвигающихся грандиозных социальных битвах, приближение которых Шекспир так отчетливо ощущал. В то же время эта трактовка была рождена острым чувством современности; в предвоенные годы, и в особенности в годы Великой Отечественной войны, созданный Хоравой образ эпически могучего воителя, верного борца за гуманистические идеалы, осуществляющего возмездие за предательство святого общего дела, имел огромную политическую актуальность.
Государственный узбекский театр имени Хамза. Сцена из спектакля «Гамлет»
Отелло — Хорава защищает Венецию, потому что видит в ней оплот культуры, для Яго — Васадзе идейные соображения здесь не играют никакой роли. Он наемный солдат по профессии и служит Венеции, потому что она его наняла.
Яго — Васадзе лишен национальных признаков, — он из числа бродяг, бездомных чужеземцев, которыми кишела Венеция той эпохи и которые с любой страной, с любым государством связаны были только расчетами выгоды. Сегодня Яго служит Венеции, завтра он может предложить свою шпагу ее врагам. Только бы сторговаться.
Васадзе увидел в Яго не просто солдата, а солдата-наемника. Наймит, продающий свое воинское искусство за деньги, он всегда потенциальный предатель. Отсюда вырастает циническая философия предательства — зерно созданного Васадзе образа.
Яго — Васадзе ненавидит Отелло, потому что тот отрицает жизненную практику и философию Яго. Пока рядом существует и действует Отелло, у Яго нет полной уверенности в прочности и естественности занимаемой им позиции. Раз рядом Отелло, выходящий из круга установленных Яго жизненных принципов, значит, принципы эти не закономерны. Яго осознает в Отелло врага своей философии хищного индивидуализма, предательства и цинизма. Поэтому так страстно хочет он стащить его в омут, где живут и действуют только хищные инстинкты, заглушить в нем разум, сделать своим единомышленником и потом погубить. Победа нужна ему не для того, чтобы раздобыть чин лейтенанта — этого он достигает легко и быстро, — она необходима ему для того, чтобы, загасив разум Отелло, победоносно утвердить незыблемость и всеобщность своей философии.
Спектакль театра имени Руставели показывает, что не только Отелло приходит к пониманию того, как опасен мир Яго, но и Яго осознает, что Отелло ему глубоко опасен. Две враждебные друг другу стороны Возрождения сталкиваются в этих образах. Поэтому борьба Отелло — Хорава с Яго — Васадзе полна такого глубокого смысла и напряжения.
В спектакле театра Руставели возникли два мира — мир воителя Отелло, для которого незыблемыми являются вера в человека, в его разум, стойкость, для которого самым тяжким грехом является предательство, измена в борьбе за торжество гуманистических идеалов, и мир наймита Яго, сделавший своим девизом предательство и вероломство, мир, попирающий лучшие идеалы человечества ради своих хищных интересов, прославляющий звериные инстинкты, ненавидящий верность, честность, разум, культуру.
Борьба этих миров достигала в спектакле огромного трагического накала.
* * *
В середине 30-х годов на советской сцене появляется несколько интересных постановок шекспировских комедий.
Следует подчеркнуть, что именно в сценической трактовке комедий Шекспира особенно живучи были формалистические, вульгарно-социологические тенденции. Фарсовые мотивы комедий Шекспира давали повод режиссерам-формалистам нагромождать в своих спектаклях такое количество трюков, что под ними исчезал философский смысл этих комедий. Одно время в нашем театре получила хождение теория, согласно которой главное в шекспировских комедиях — это цепь взаимных поддразниваний, мистификаций. Мир шекспировских комедий превращался в подобие театральных подмостков, где все ведут некую замысловато-забавную, изысканную игру.
Подобная позиция режиссера приводила к тому, что реальная, красочная жизнь, воплощенная в этих комедиях, представала как мир иллюзорный, неправдоподобный, со своими особыми, не подчиняющимися жизненной логике законами.
В спектаклях, поставленных во второй половине 30-х годов, была сделана успешная попытка всерьез разобраться в проблеме стиля шекспировской комедии, в характере ее реализма, в ее гуманистических идеях.
В 1936 году на сцене театра имени Вахтангова режиссер И. Рапопорт поставил «Много шума из ничего». Этот спектакль, изящный и остроумный, вот уже двадцать лет не сходит со сцены. В нем, может быть, не до конца еще была раскрыта полнокровность реализма Шекспира. Комедия его была в театре имени Вахтангова заключена в очень уж изящные и легкие формы, но зато в спектакле вахтанговцев была с блеском раскрыта интеллектуальность шекспировских героев, острота их мысли, широта их суждений, способность сделать разум разящим оружием в борьбе за права человека, за его достоинство.
Люди эпохи Возрождения — и прежде всего Бенедикт — Р. Симонов и Беатриче — Ц. Мансурова предстали на сцене во всем своем блеске: подлинно свободные, остроумные, не знающие предрассудков и вялых чувств, гордые своей духовной независимостью и уменьем подчиняться только велениям собственного сердца, они сразу завоевали симпатии зрителей.
Центральное место среди постановок комедий Шекспира в эту пору занял спектакль «Укрощение строптивой» (1938 г.), осуществленный А. Поповым в Центральном театре Красной Армии. Спектакль этот до сих пор является классическим образцом прочтения комедии Шекспира советским театром.
Какие же режиссерские принципы были в нем воплощены?
Попов великолепно раскрыл стилистическую природу комедии. Он показал живописность, бытовую сочность нарисованных Шекспиром сцен, он воскресил эпоху не только в ее основных очертаниях, но и в ее деталях, частных, но характерных приметах. На сцене театра Красной Армии был воссоздан мир не только колоритный, красочный, но и разнообразный, полный контрастов, мир, в котором переплетаются противоположные устремления очень разных людей, где из знатного дома с чинным распорядком герои переносятся в холостяцкий охотничий замок, в котором хозяйничают забулдыги-слуги и нравы которого напоминают разбойничий притон. Широта и разносторонность отраженной в комедии жизни была выявлена уже в самом оформлении спектакля, созданном художником Шифриным. Как известно, действие комедии «Укрощение строптивой» происходит в Италии, однако в характерах и повадках действующих лиц, в их быте легко заметить много английского. Еще Энгельс указывал на эту особенность комедий Шекспира, действие которых, независимо от авторских ремарок, может происходить только под английским небом.
Как же разрешил художник эту сложность в определении и обозначении места действия комедии? Он создал в спектакле Италию, увиденную глазами англичанина. Итальянский пейзаж был нарисован в спектакле на гобеленах, столь типичных для Англии той эпохи, в жестких тонах северной живописи. Этот «двойной» местный колорит спектакля придавал ему особую прелесть.
Живописная, полная сочных бытовых деталей обстановка спектакля была тем жизненным фоном, на котором естественно вырастали и колоритные фигуры главных героев — Петруччио и Катарины. Если даже эпизодические образы этого спектакля привлекали своей жизненностью, исторической достоверностью, если со всех людей и вещей была стерта «пыль веков» и они воспринимались зрителем интимно, как добрые знакомцы, то с Катариной и Петруччио (которых великолепно играли Л. Добржанская и В. Пестовский) он успевал сродниться, полюбить их как людей, во многом близких ему по духу.
Здесь мы подходим к тому, что представляет главную ценность постановки А. Попова и его идейной трактовки комедии. В истории об укрощении своенравной Катарины ее мужем Петруччио, истолковывавшейся часто как проповедь домостроя и гимн грубой мужской силе, советский режиссер увидел гимн свободному человеческому чувству, любви, основанной на уважении людей друг к другу. Спектакль показывал, как в результате борьбы Катарины за свое человеческое достоинство «укрощается» сам укротитель Петруччио и как в этой борьбе оба они начинают по-новому ценить и свою любовь и свою большую человеческую дружбу.
В незамысловатом фарсе, каким часто воспринимали «Укрощение строптивой», театр Красной Армии увидел проповедь благородных гуманистических идей. С увлечением показывая бытовую основу комедии, театр помнил о своей главной задаче — раскрыть ее гуманистический пафос.
В этом, собственно, и состояло выдающееся значение спектакля театра Красной Армии.
Другим интересным событием в сценической истории комедий Шекспира, на котором тоже стоит специально остановиться, является спектакль «Как вам это понравится», поставленный Хмелевым и Кнебель в 1940 году в театре имени Ермоловой.
В отличие от «Укрощения строптивой» эта комедия не содержит в себе столь явных бытовых мотивов: по своему жанру она кое в чем близка фантастической пасторали, по своей идейной проблематике она более философична и затрагивает более широкий, чем «Укрощение строптивой», круг вопросов.
Постановщики спектакля сумели уловить в жанровой стихии комедии фольклорный, балладный дух.
Фантастический французский Арденнский лес в этом спектакле предстал английским Шервудским лесом, где царит дух легендарного Робин Гуда. Робингудовский лес был в спектакле той обетованной землей, в которой между людьми устанавливаются новые, естественные отношения. Он был противопоставлен дворцу герцога-насильника и узурпатора, где царят ложь и бесчеловечность.
«Ермоловский театр в этом спектакле создал целую галерею живых образов: и наивного Орландо, и простодушной Селии, и предприимчивой Розалинды, и печального Жака, и лукавого Оселка», — пишет шекспировед М. Морозов. В центре спектакля стоял образ меланхолика Жака, созданный Якутом. «Было, — пишет тот же Морозов, — что-то "свифтовское" в горькой скорби Якута — Жака, и даже в самом его гриме».
Центральный театр Красной Армии. Сцена из спектакля «Укрощение строптивой»
Спектакль этот по своей психологической тонкости, по своей мягкой стилистической манере напоминал постановку «Двенадцатой ночи» Станиславского в Первой студии. Вместе с тем он был полон глубокой философской мысли и большого общественного содержания.
Опыт двух постановок: «Укрощение строптивой» в ЦТКА и «Как вам это понравится» в театре имени Ермоловой показал, как многообразны жанровая природа и идейная проблематика шекспировских комедий, какие различные режиссерские решения возможны при их воплощении.
Следует, однако, сказать, что опыт этот далеко не в должной мере был учтен нашим театром. В последних постановках комедий Шекспира зачастую господствует некое штампованное представление о западной «костюмной» комедии «вообще», в них не чувствуется стремления постичь идейно-художественную специфику комедии Шекспира. В некоторых последних спектаклях, таких, как «Два веронца», в театре имени Вахтангова, «Двенадцатая ночь» в Художественном театре, дано облегченное прочтение шекспировской комедии, весьма далеки они и от глубокого реализма Шекспира. Постановки эти носят характер развлекательный, зрелищный, они представляют собой шаг назад по сравнению с лучшими спектаклями 30-х годов.
Тем более важно напомнить об этих спектаклях, о той традиции истолкования комедий Шекспира, которая была заложена в 30-х годах и которая должна быть продолжена.
* * *
Сейчас начинается новый этап сценической истории Шекспира в советском театре. Пока еще трудно исчерпывающе определить его особенности. Однако некоторые важные тенденции этого нового этапа воплощения Шекспира в советском театре уже очевидны. С одной стороны — это стремление расширить круг шекспировских пьес, бытующих в нашем репертуаре, а с другой — тяготение к углубленному раскрытию героической темы Шекспира, широкой социальной масштабности его произведений.
Все это определяет и выбор пьес. Внимание театров привлекает «Король Лир», «Гамлет», произведения, в которых Шекспир с наибольшей полнотой отразил коренные социально-философские проблемы и противоречия эпохи Возрождения. В этих великих трагедиях, занимающих центральное место в творчестве Шекспира, с потрясающей силой раскрылись главные черты шекспировского реализма — уменье живо и всеобъемлюще отразить важнейшие исторические, идейные противоречия эпохи и способность синтезировать огромные проблемы в героические образы. Ряд наших театров в последнее время поставил «Антония и Клеопатру», «Меру за меру» — произведения, в которых Шекспир особенно остро ставит вопрос о взаимоотношениях государства и человеческой личности, государственной власти и общества.
Характерно, что, как и в 30-е годы, новые тенденции сценического истолкования Шекспира проявляются и утверждаются сначала в постановках его трагедий. Эти новые тенденции сказались и в постановках «Короля Лира», которые появились в Минске и Брянске, Калуге и Ереване.
Постановщик «Короля Лира» в Калуге Д. Любарский выделил в трагедии героико-эпические мотивы; вместе с тем он постарался выявить глубокий социальный смысл трагедии. Понимание того, что в трагедии старого короля отражена важнейшая общественно-историческая коллизия эпохи, дало режиссеру ключ к раскрытию подлинных масштабов событий, происходящих в «Лире».
Раскрыв в образах Лира, Кента, Глостера, Корделии, Эдгара черты патриархального благородства, суровой мужественности и простоты, театр тем самым не только подчеркнул народно-героические мотивы трагедии, ясную силу того мира, в котором крепки подлинно человеческие чувства и связи, но и показал злую силу эгоистических, индивидуалистических отношений, разрывающих эти связи.
Говоря о тенденции к большим обобщениям и широкому размаху, характерной для многих нынешних постановок Шекспира, нельзя не остановиться на спектакле эстонского Таллинского театра имени Кингисеппа «Антоний и Клеопатра». Это «спектакль крупных планов, широкий, размашистый, больших обобщений, спектакль героический по духу, торжественный по форме», — пишет критик Т. Бачелис.
Ставя в центре спектакля большую проблему государственности и человечности, резко противопоставляя холодный, бездушный, цезаристский Рим самозабвенному, беззаветному, очищающему чувству любви Антония и Клеопатры, режиссер И. Гаммур создает спектакль не только монументальный и яркий, но и лаконичный по форме. Избранная постановщиком форма спектакля позволяет сохранить шекспировскую стремительность и непрерывность действия, дает актерам возможность сосредоточить внимание на главном — осмыслении и раскрытии шекспировского текста.
Это обстоятельство необходимо особо подчеркнуть, так как некоторые режиссеры видят единственный путь к раскрытию на сцене монументальности и размаха шекспировских произведений в создании пышного, зрелищного, декоративного спектакля.
Такой стиль в известной мере характерен для постановки Охлопковым «Гамлета» (театр имени Маяковского).
Тяжелые, громоздкие декорации этого спектакля и прежде всего огромные, кованые ворота, которые то открываются, пропуская героев внутрь дворца, то захлопываются перед ними, должны были, по замыслу режиссуры, служить образом «Дании-тюрьмы». Верный в существе своем замысел был воплощен в такой пышной, громоздкой, декоративной форме, которая оказалась чуждой шекспировской драме, ее динамике и приобрела в спектакле чрезмерное значение.
Однако, как бы ни относиться к стилю этого спектакля, его декоративной форме, нельзя не отметить того, что «Гамлет» в театре имени Маяковского несет в себе важную общественную тему, что он насыщен большой гуманистической мыслью. Мысль эта заключается в противопоставлении Гамлета официальному, пышному, дворцовому миру. Как только в королевских покоях, среди веселых придворных появляется Гамлет — Самойлов, сердечный, с простым, открытым лицом, — становится очевидно, что он чужд дворцовому миру. Тема трагического одиночества простого, честного, доброжелательного к людям человека в окружающем его лживом, самодовольном и эгоистическом мире, возникающая в первых сценах спектакля, перерастает в ходе развития трагических событий в тему утверждения необходимости борьбы человека с этим миром.
Именно эта мысль, настойчиво звучащая в спектакле, и придала шекспировской постановке театра имени Маяковского, несмотря на все его стилистические несообразности, широкое общественное значение. Зрелой режиссерской мыслью пронизан спектакль «Гамлет» и в ленинградском государственном театре имени Пушкина (постановка Г. Козинцева).
Анализируя последние шекспировские работы советского театра, следует особо выделить исполнение актером Северо-Осетинского театра В. Тхапсаевым роли Отелло. Исполнение Отелло Тхапсаевым является поистине выдающимся созданием актерского искусства.
Беря за основу своего истолкования общепринятую в советском театре концепцию образа Отелло, артист доводит основные положения этой концепции до их логического завершения.
Тхапсаев отстраняет от себя все соблазны внешних эффектов, ставших традиционными в роли Отелло.
Актер не подчеркивает мавританской экзотичности Отелло, его внешней исключительности, наоборот, он стремится, чтобы зритель как можно скорее забыл о необычности облика мавра и приковал свой взор к его душе, к тому важному, что в ней совершается и что имеет для нас такое важное значение. Мало сказать, что Тхапсаев играет Отелло правдиво и просто. Он играет его очень скромно, подвергая себя как художника почти аскетическому ограничению. Актер отбрасывает от себя не только внешние эффекты, он отказывается от обыгрывания ряда «гастрольных» мест, чтобы не затемнить ясности общего замысла и не отвлечься от точно прочерченной линии развития образа. Он не боится обыденного в героическом.
Тхапсаев глубоко постиг тот синтез героического и жизненно конкретного, к которому настойчиво и неоднократно призывал Станиславский именно в связи со сценическим воплощением «Отелло».
Смелость исполнения Тхапсаева заключается в том, что, показывая всю силу переживаний Отелло, огромный накал его страстей, он делает это с той простотой и сдержанностью, которые мы привыкли связывать с более поздними формами реализма, нежели реализм Возрождения, и которые на сцене казались достижимыми разве лишь при воплощении пьес Чехова.
В реализме Шекспира и в самой трагической теме Отелло Тхапсаев выделил те основные черты, которые оказались удивительно близкими искусству последующих эпох и которые составляют первооснову всякого реалистического искусства.
* * *
Советский театр проделал большой и плодотворный путь борьбы за подлинного Шекспира. Выработанные нашим театром принципы сценического воплощения его произведений открывают пути для нового, все более глубокого их истолкования. Новый опыт истории, рост нашего искусства дадут возможность раскрыть все новые и новые стороны в творчестве Шекспира, все глубже и выразительней воплощать на сцене его произведения.
Неустанному движению вперед в сценическом прочтении классики, ненависти к догматизму и рутинерству в ее истолковании, уменью взглянуть на классическое произведение как на «саму жизнь» (выражение Станиславского), — вот чему прежде всего учит сценическая история Шекспира в советское время.