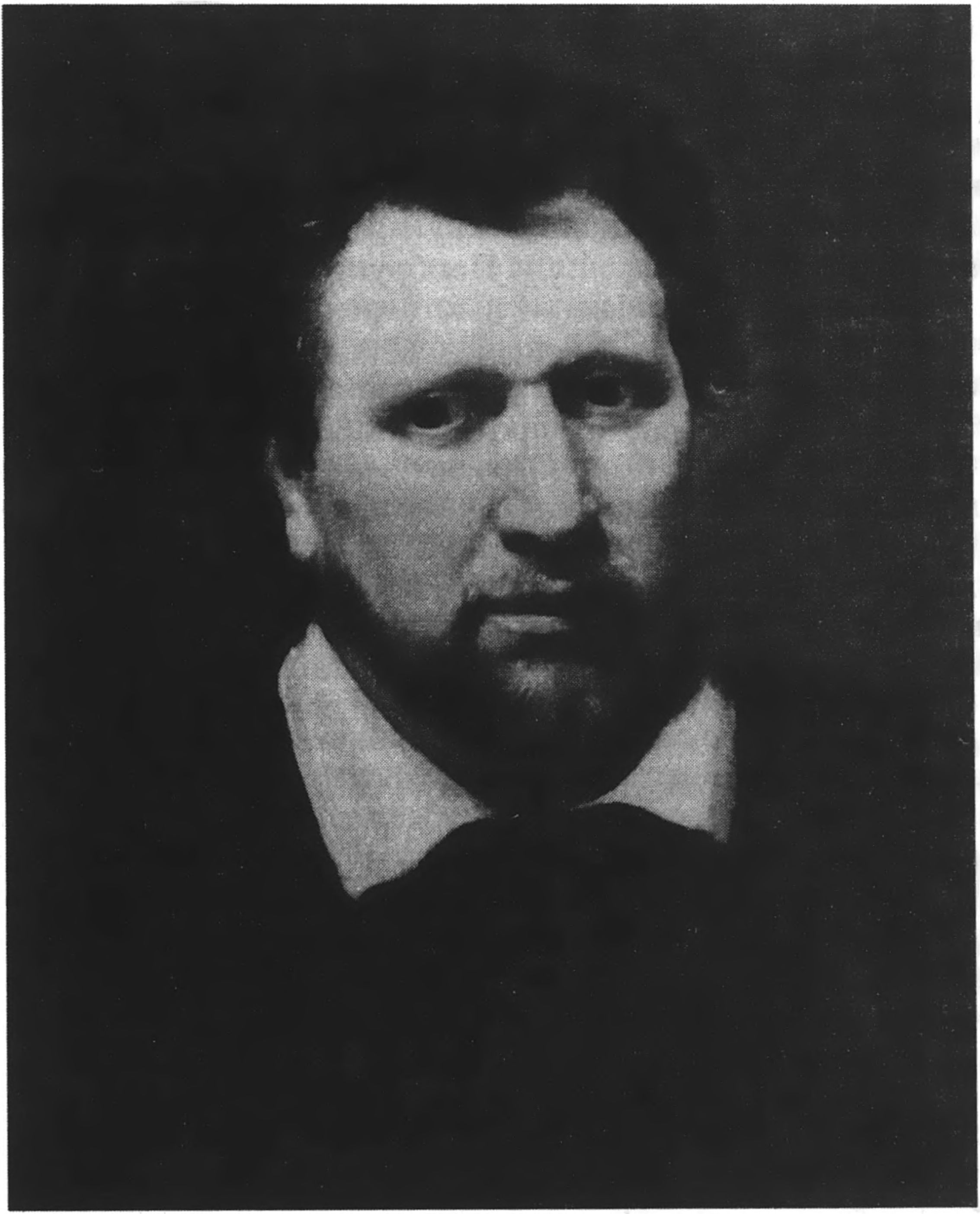Разделы
Счетчики
И Мэннерс ярко сияет...
И наконец «Великие Владетели» сочли, что время для представления миру Великого Барда Уильяма Шекспира пришло. Лето 1622 года, десятая годовщина смерти бельвуарской четы. Именно в этот год (как известно теперь из каталога Франкфуртской книжной ярмарки) должно было появиться полное собрание пьес Шекспира, а также памятник в стратфордской церкви. Это небольшое настенное сооружение каменотесы Янсены, до этого работавшие лад надгробным памятником Рэтленду, действительно в 1622 году установили, позаботившись — по указанию высоких заказчиков — о сходстве деталей внешнего оформления*. А вот своевременно, в объявленный срок выпустить огромный фолиант не удалось. Работа, начавшаяся в апреле 1621 года под руководством Мэри Сидни-Пембрук, надолго прерывается в октябре этого года после ее внезапной кончины; как мы знаем, Блаунту удается выпустить книгу в свет только осенью 1623 года.
Но дата «1622» все-таки не прошла совсем не отмеченной: в этом году появился неизвестно где прятавшийся, никогда не печатавшийся «Отелло», переизданы «Ричард III» и «Генрих IV», а в очередном издании книги Овербери напечатали наконец элегию Бомонта на смерть Елизаветы Рэтленд. К 1622 году относится также столь известное сегодня стихотворение Уильяма Басса (опубликованное через 18 лет в издании поэтических произведений Шекспира). Басс воздает величайшую хвалу Шекспиру, который достоин быть похороненным в Вестминстерском аббатстве рядом с Чосером, Спенсером, Бомонтом. Отметим, что Бомонт, умерший в том же 1616 году, что и Шакспер, в отличие от последнего, был похоронен с надлежащими почестями и оплакан многочисленными друзьями.
Вскоре после смерти Мэри Сидни-Пембрук ее сын, лорд-камергер, еще более приблизил Бена Джонсона. На него были возложены обязанности смотрителя королевских увеселений, в эти обязанности входило и цензурирование пьес; предшественник Джонсона, сэр Джордж Бак, был объявлен сумасшедшим — вероятно, бедняга окончательно запутался в изощренных фантасмагориях «Великих Владетелей». А чтобы потом кому-то не вздумалось их распутывать, старые регистрационные книги во время работы над Великим фолио спалили, за ними та же судьба постигла кабинет и библиотеку Бена Джонсона вместе с самыми его сокровенными рукописями, дабы его не мучил соблазн каким-то образом их опубликовать. Об этом пожаре, об этих сгоревших рукописях и регистрационных книгах (а также о пожаре, уничтожившем в 1613 г. театр «Глобус») Джонсон меланхолически вспоминал потом в поэме «Проклятие Вулкану»**. Так «Великие Владетели» еще раз продемонстрировали свою мало перед чем останавливающуюся предусмотрительность. Впрочем, Джонсон (который при создании Великого фолио блестяще выполнил чрезвычайно важную работу, в том числе написал от имени актеров обращения к Пембруку и к читателям, а также два основных вступительных стихотворения) мог утешиться тем, что ему удвоили денежный пенсион. А вообще подсчитано, что расходы по изданию Великого фолио составили около 6000 фунтов стерлингов, выручка же от продажи всего тиража не превышала полутора тысяч фунтов. Огромную по тем временам разницу могли, конечно, покрыть только «Великие Владетели», в первую очередь Пембруки и Дорсеты. Как мы уже знаем, памятные стихотворения в Великое фолио кроме Джонсона дали Леонард Диггз, упомянувший о стратфордском монументе, который будет размыт временем, аноним I.M. и знакомый нам Хью Холланд — тот самый, что снабдил «Кориэтову Капусту» обращением «К идиотам-читателям».
Бен Джонсон
Наступает 1632 год. Двадцатилетие со времени смерти Рэтлендов. И нас уже не удивит, что именно в этом году выходит второе издание шекспировского фолио, которое принято называть «Второе фолио». Главной фигурой в этом издании был уже Роберт Аллот, именно ему Блаунт незадолго до того передал свои права на издание ряда произведений, в том числе и 16 шекспировских пьес. Второе фолио в основном является перепечаткой Первого, исправлены лишь некоторые опечатки и грамматические погрешности; поскольку эта работа не была чересчур трудоемкой, книга вышла к намеченному сроку...
Во Втором фолио точно воспроизведена и гравюра Дройсхута, якобы изображающая Шекспира, с лицом-маской, перевернутым камзолом и другими озадачивающими шекспироведов странностями. Перепечатано из Первого фолио и двусмысленное обращение Джонсона к читателю по поводу этого «портрета», на который рекомендуется не смотреть, а также его поэма «Памяти автора, любимого мною Уильяма Шекспира, и о том, что он оставил нам». Мы уже говорили немного об этой замечательной поэме, подлинном шедевре, достойном гения, которому он посвящен. Теперь обратим внимание и на те строфы, которых не коснулись ранее.
Джонсон восклицает (как бы возражая Уильяму Бассу): «Восстань, мой Шекспир! Я не стал бы помещать тебя с Чосером и Спенсером или просить Бомонта подвинуться немного, чтобы освободить место для тебя. Ты сам себе памятник без надгробия и будешь жить, пока будет жить твоя книга и у нас будет хватать ума читать ее и прославлять тебя. То, что я не ставлю тебя в ряд с ними, я могу объяснить: их музы тоже великие, но не равные твоей; если бы я считал свое мнение зрелым, то я сравнил бы тебя с самыми великими и показал бы, насколько ты затмил нашего Лили, смелого Кида и мощный стих Марло. Хотя у тебя было мало латыни и еще меньше греческого, не среди них (англичан. — И.Г.) я стал бы искать имена для сравнения с тобой, а воззвал бы к громоносному Эсхилу, Еврипиду и Софоклу, Паккувию, Акцию и тому, кто был из Кордовы (Сенека. — И.Г.). Я оживил бы их, чтобы они услышали, как сотрясается театр, когда ты ступаешь на котурнах трагедии, или убедились в том, что ты единственный способен ходить в сандалиях комедии и стоишь выше сравнения с тем, что гордая Греция и надменный Рим оставили нам...»
Слова о якобы слабом владении Шекспиром латынью и греческим не могут быть приняты всерьез: сегодня шекспироведы хорошо знают, что произведения Великого Барда свидетельствуют как раз об обратном — о превосходном знании и свободном владении латинскими и греческими источниками***. Конечно, Джонсон считал себя крупнейшим знатоком латыни и греческого среди всех поэтов и писателей Англии (и прямо объявил об этом Драммонду в 1619 г.) и невысоко оценивал знания всех других. Но, кроме того, создатели Великого фолио уже сознательно, хотя и осторожно, подгоняют образ Потрясающего Копьем под начавшую приобретать более определенные формы Легенду.
Джонсон называет Шекспира «сладостным лебедем Эйвона». Стратфордианцы указывают на то, что Стратфорд расположен на реке Эйвон, но рек с таким названием в Англии шесть, в том числе протекает Эйвон и в местах, где жили Рэтленды****. Далее Джонсон вспоминает о набегах (буквально — прилетах) Шекспира на берега Темзы, «так нравившихся нашей Елизавете и нашему Джеймсу (Иакову)». Повторю, что нет даже малейших данных о том, что оба монарха или хотя бы один из них поддерживали какое-то знакомство со стратфордцем, а вот Рэтленда они — особенно Иаков — знали хорошо и видели во время редких появлений («прилетов») «лесного графа» в королевскую столицу.
Джонсон продолжает: «Все музы были еще в цвету, когда он явился, подобно Аполлону, чтобы ласкать наш слух и, подобно Меркурию, нас очаровать! Сама Природа гордилась его творениями и с радостью облачалась в наряд его поэзии! Этот наряд был из такой богатой пряжи и так великолепно скроен, что с тех пор Природа не создает подобных умов... Но я не приписываю всего исключительно одной Природе — твоему искусству, мой благородный Шекспир, принадлежит твоя доля. Хотя материалом поэта является природа, форму ей придает его искусство. И тот, кто стремится создать живой стих, такой, как у тебя, должен попотеть, выбивая искры на наковальне муз, переделывать задуманное и самому меняться вместе с ним... ибо подлинным поэтом не только рождаются, но и становятся».
Далее идут строки, которые довольно странно звучат по-английски, а на русский язык всегда переводятся приблизительно, в результате чего тончайшая игра со словом, большим мастером которой был Бен Джонсон, остается неувиденной и неуслышанной. А обыгрывает здесь Джонсон родовое имя Рэтленда — Мэннерс, которое, если его использовать в качестве существительного, может пониматься как «манеры», «обычаи», «нравы». Словно «manners» в шекспировских сонетах встречается три раза (39, 85, 111), и каждый раз смысл сонета становится ясным, если это слово рассматривать как собственное имя. Например, первая строка в сонете 85:
«My tongue-tied Muse in manners holds her still...»
Буквально это может значить: «Моя Муза со связанным языком держит себя тихо». Но зачем же здесь добавлено «in manners»? Обычно переводчики, не доискавшись смысла в этом выражении, просто опускают слово «manners». Смотрим перевод С. Маршака: «Моя немая муза так скромна...» В переводе Т. Щепкиной-Куперник: «О, муза бедная — ее совсем не слышно: Притихла и молчит...» Строка (включая добавку) приобретает смысл, только если понимать, что «manners» — собственное имя, хотя и написанное со строчной буквы: «Моя Муза остается молчаливой во мне, Роджере Мэннерсе». В сонете 111 Шекспир упрекает богиню Фортуну, поставившую его в зависимость от публичных выплат. В четвертой строке появляется «manners» с глаголом в единственном числе; значит, «Мэннерс» здесь — имя5*, и рэтлендианцы относят этот сонет к 1604—1605 годам, когда Рэтленд, находясь в крайне тяжелом финансовом положении, был вынужден выпрашивать субсидии («подаяния») у правительства.
Обыгрывание имени «Мэннерс» есть в эпиграмме Уивера и в книге Кориэта; особенно вызывающе оно выглядит, когда «Мэннерс» ни с того ни с сего вдруг появляется в конце «Кориэтовых Нелепостей».
Джонсон включился в эту игру в своих эпиграммах, появившихся в его «Трудах» в 1616 году. В 9-й эпиграмме он просит тех, чьи имена встречаются в его книге, не искать там своих титулов, так как это было бы «against the manners of an epigram». Эта фраза может восприниматься как заверение в том, что Джонсон будет придерживаться формы и традиционного характера поэтического жанра эпиграммы. Но выражение «against the manners» можно понимать и как лукавый намек, что эпиграмма направлена в сторону Мэннерса. Тем более что в следующей, 10-й эпиграмме (а Джонсон сам тщательно группировал эти стихотворения) он обращается к некоему лорду, насмешливо назвавшему его поэтом, и говорит, что отомстил этому лорду в его собственном имени! Здесь уместно вспомнить об эпизоде, рассказанном Джонсоном Драммонду: однажды Рэтленд упрекнул жену, за столом у которой он увидел Джонсона, в том, что она принимает у себя этого поэта. Эпиграммы 9—10 еще раз свидетельствуют, что Джонсон обиды не забыл, хотя, похоже, и не придавал этому эпизоду большого значения.
Эпиграмма 77 адресована «тому, кто не желает, чтобы я назвал его имя»: «Не беспокойся, что моя книга может разгласить твое имя. Если ты боишься оказаться в одном ряду с моими друзьями, то я был бы пристыжен, когда бы ты стал считать меня своим врагом».
Эпиграмма 49 адресована «Драматургу»: «Драматург читал мои стихи и с тех пор поносит их6*. Он говорит, что я не владею языком эпиграмм и им не хватает соли, то есть непристойности... Драматург, я не хочу открывать тебя (твои манеры, обычаи) в моей чистой книге; лучше открой себя (их) сам в своей собственной». Здесь — непереводимая дразнящая игра слов. Ключевая фраза: «I loathe to have thy manners known» может быть прочитана и так: «Я не хочу открыть тебя, Мэннерс».
А теперь вернемся к джонсоновской поэме о Шекспире в Великом фолио, где Бен Джонсон превзошел самого себя в этой игре. После строки: «Ибо подлинным поэтом не только рождаются, но и становятся», следуют шесть строк, которые в известном переводе-подстрочнике А.А. Аникста звучат так: «Таким именно и был ты. Подобно тому, как облик отца можно узнать в его потомках, так рожденное гением Шекспира ярко блистает в его отделанных и полных истины стихах: в каждом из них он как бы потрясает копьем перед лицом невежества»1. Посмотрим это место в английском оригинале; мы обнаружим там родовое имя Рэтленда (неизбежно исчезающее при переводе, если видеть в нем просто существительное множественного числа), причем в таком контексте, который не только подтверждает его присутствие в Великом фолио, но и открывает характер этого присутствия:
«And such wert thou. Look how the father's face
Lives in his issue, even so, the race
Of Shakespeare's mind, and manners brightly shines
In his well-turned and true-filed lines7*:In each of which, he seems to shake a lance,
As brandished at the eyes of ignorance».
Обратим внимание, что глагол «сияет» (shines) стоит в единственном числе, следовательно, «Мэннерс» (manners) — слово, к которому глагол относится, — это имя; перед ним поставлена — что очень важно — запятая, отделяющая эту часть сложного предложения от предыдущей. Слово turned имеет много значений, в том числе и «измененный», «повернутый» и т. п.
С учетом всех этих (и других) хитроумных и изящных уловок для тех немногих, кто знал о роли, которую сыграл в создании творений и самого образа Потрясающего Копьем Роджер Мэннерс, граф Рэтленд, эти строки в поэме Джонсона звучали достаточно внятным паролем: «Посмотрите, как черты отца проступают в его потомках, так и дух Шекспира, его происхождение8*, и Мэннерс ярко сияет в своих великолепно отделанных строках, в каждой из которых он как бы потрясает копьем, размахивает им перед глазами незнания». Последние две строки заставляют вспомнить шекспировский сонет 76: «И кажется, по имени назвать меня в стихах любое может слово»; мысль, образ тот же самый — скрывающийся за псевдонимом-маской Автор дразняще смеется перед слепыми глазами Неведения и Непонимания. И кроме того, Джонсон прямо называет имя подлинного Потрясающего Копьем. Бен был близко знаком с Рэтлендами — Мэннерсами и в любом случае не мог не понимать, какой смысл приобретали эти строки из-за слова-имени «Мэннерс»9* (неловкого и грамматически не вписывающегося, если его считать просто существительным множественного числа), но он не только употребил его в этом чрезвычайно важном контексте, но и специально выделил эту важнейшую аллюзию в адрес Рэтленда многозначительной запятой10*.
Подобно тому как черты родителя можно увидеть в его создании, так и Мэннерс сияет в шекспировских строках...
Самая знаменитая, всегда приводимая во всех шекспировских биографиях, полностью или в отрывках, поэма Джонсона вместе с его обращением к читателю по поводу пресловутой «фигуры» на гравюре Дройсхута, долженствовавшей представлять глазам не знающих истину образ Потрясающего Копьем, является одним из важнейших ключей к постижению «шекспировской тайны». И Джонсон, который не мог открыто сказать все, оставил эти указатели на пути к истине, не уставая обращаться к грядущим читателям: «Смотрите книгу, не портрет». Он повторил это многозначительное предостережение и в другом обращении к читателям — в двустишии, открывающем собрание его эпиграмм:
«Читайте эту книгу осмотрительно, чтобы понять ее».
Подобно стрелке компаса, всегда показывающей на север, взор Джонсона во многих его произведениях устремлен в сторону Шервудского леса и его необыкновенных хозяев, скрытых от глаз Непонимания пеленой Легенды, в становлении которой Бену Джонсону было суждено сыграть не последнюю роль.
В поэме-послании к Эдуарду Сэквилу, 4-му графу Дорсету (близкому к Рэтлендам), Джонсон говорит о том, кто утром мог быть одним человеком, а вечером — самим Сидни! Или, отправившись в постель Кориэтом, встать с нее потом самой значительной головой христианского мира! Этого удивительного человека Джонсон, как видно из послания, знал хорошо, знал его и Дорсет, и этим общим их знакомым, способным на необыкновенные преображения, был Роджер Мэннерс, граф Рэтленд.
Особый интерес представляет такая плохо изученная область, как джонсоновские пьесы-маски и сценарии развлечений; многие из них содержат явные намеки на бельвуарскую чету и ее тайну, ставшую тайной века, тайной всего Нового времени. В предисловии к маске «Гименей» Джонсон прямо говорил, что его маски не просто предназначены для увеселения знатных особ, а являются «зеркалом жизни» и содержат свои важные, но понятные только избранным секреты. Однако выискивать в этом зеркале черты и следы реальных ситуаций и прототипов аллегорических персонажей — занятие весьма трудное, если у того, кто на него отважится, нет надежного ключа к маске, к ее загадке. Задача осложняется и жанровыми особенностями маски, представлявшей собой своеобразный балет-пантомиму, исполнителями которой были знатные персоны, а иногда и члены королевской семьи — король Иаков был неравнодушен к этим пышным представлениям.
Сюжет маски не всегда четко очерчен, не все его линии получают развитие в ходе представления, текст изобилует намеками и двусмысленностями, понятными лишь немногим. Реальные ситуации, намеки на которые содержатся в маске, аллегоризированы и часто получают фантастическое преломление. И все это на фоне обилия чисто декоративного и развлекательного материала. Английский исследователь Д.Б. Рэнделл отмечает, что головоломные трудности, с которыми приходится сталкиваться при попытках проникнуть в тайны джонсоновских масок, тупики и ловушки, в которые попали некоторые джонсоноведы, привели к тому, что «серьезные ученые, заботящиеся о чистоте своей научной репутации, с трудом отваживаются касаться столь щекотливого предмета»2. Боязнь попасть впросак сделала попытки найти ключ к тайнам этих масок достаточно редкими в академическом литературоведении. Здесь напрашивается некоторая аналогия с проблемой шекспировского авторства и личности, которую многие серьезные и дорожащие «чистотой своей научной репутации» западные академические шекспироведы в еще большей степени предпочитают обходить подальше. Такое сходство в отношении к этим проблемам представляется отнюдь не случайным.
Маска «Преображенные цыгане», пользовавшаяся особой любовью короля Иакова, в 1621 году была трижды исполнена перед ним (3 августа — в Берли-он-Хилл, 5 августа — в Бельвуаре и в начале сентября — в Вестминстере). В маске, «цыганские» персонажи которой изображают неких неназванных представителей самой высокопоставленной английской знати, содержатся дразнящие намеки на какую-то чрезвычайно важную тайну, известную только немногим. Один из персонажей маски спрашивает другого: «Что должен сделать человек, чтобы войти в вашу компанию?» — то есть стать «цыганом». И тот отвечает, что «такой человек должен быть посвящен в тайну, достойную истории. Многое надо сделать, прежде чем ты сможешь стать сыном или братом Луны, а это не так скоро, как хочется». По словам самого автора (Джонсона) в эпилоге, хотя необычные «цыгане» и окружающая их секретность могут показаться непосвященным зрителям странными, этой темы не должны касаться другие, поэтому «добрый Бен забыл... объяснить все это».
В маске много аллюзий на Бельвуар и его прошлых хозяев, в том числе и на «отсутствующую деву Мариан», и «хитроумного обманщика, Первого лорда цыган». Он, оказывается, любил посещать знаменитую «Пещеру дьявола» недалеко от графства Рэтленд и даже приглашал туда к себе в гости самого дьявола. Бен Джонсон и сам бывал в этой пещере и упоминает о ней в нескольких масках — в связи с Робин-Худом и Шервудским лесом (как мы знаем, в «Печальном пастухе» Джонсон под именем Робин-Худа, главного человека Шервудского леса, вывел Рэтленда, который официально был управляющим этого королевского леса).
Все это, а также троекратная последовательная постановка маски перед королем, совпадающая по времени с его окруженной необычайной таинственностью поездкой в Бельвуар (венецианский посол доносил дожу, что кавалькада двигалась в полном молчании), позволяют сделать заключение, что тайна «цыган» связана с тайной бельвуарской четы и маска приурочивалась к десятилетию их смерти.
Д.Б. Рэнделл с удивлением отмечает, что в том же 1621 году (27 июня) был брошен в тюрьму поэт Джордж Уитер за то, что в своей книжке он пытался коснуться того же предмета, которому посвящена джонсоновская маска. Еще в декабре предыдущего года лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон написал, а король подписал специальную прокламацию «Против распущенных и невыдержанных речей»; в июле 1621 года была издана еще более строгая королевская прокламация, угрожавшая ослушникам и болтунам смертью. Вскоре после этого Джонсон подверг незадачливого Джорджа Уитера яростным нападкам в маске «Время, защищенное в своей чести и в своих правах». Она была представлена при дворе в Рождество 1622 года и издана кварто в 1623 году. Здесь мы встречаем Славу, посланную Временем. Наглый сатир Хрономастикс, преследующий Время, собирается его бичевать, но, вглядевшись в лицо его Славы, останавливается в изумлении и роняет свой хлыст: «Кто же это? Моя госпожа! Слава! Леди, которую я почитаю и обожаю; как много я потерял, что не видел ее раньше! О, простите меня, моя госпожа, что я не узнал вас сразу и не приветствовал, как подобает! Но теперь я буду служить Славе и тем завоюю себе имя...» Но Слава с презрением гонит его прочь: «Я не желаю тебя знать, обманщик, фигляр, самовлюбленный хвастун. Твои похвалы только грязнят Музу... ступай прочь и оставь в покое великие имена...» В дальнейшем маска прославляет защищенных Время и Любовь, лица которых, однако, постоянно скрыты в тени и не могут быть видимы. Но само их невидимое присутствие создает гармонию и украшает мир.
Общепризнано, что нападки Джонсона направлены именно против Уитера, но удивляет безжалостная ярость, с которой Бен обрушивается на поэта, уже изрядно пострадавшего от властей предержащих за то, что посмел приблизиться к запретной области, куда вступать могли только такие доверенные литераторы, как получавший королевскую пенсию Бен Джонсон. Досталось от Джонсона и издателю, и другим лицам, причастным к появлению уитеровской книжки. Исследователи не смогли определить причины преследования Уитера властями и жестоких нападок на него Джонсона. Уже позже, когда этот эпизод остался позади, Уитер жаловался, что ему помешали назвать и восславить «эти поднимающиеся звезды», что его «добрая попытка» потерпела неудачу.
Кого же увидел и узнал Уитер, какие «поднимающиеся звезды» он хотел «привести к сиянию»? Заметим, что вся эта история происходит в разгар работы над шекспировским Великим фолио, в приближении годовщины смерти Рэтлендов. Характер обвинений, выдвигаемых против сатира Хрономастикса (то есть против Уитера и его издателя) в контексте джонсоновской маски вместе с «Преображенными цыганами», свидетельствует, что Уитер чуть было не разболтал ставшую ему случайно известной тайну, находившуюся под высочайшей опекой. Эта история помогает лучше понять причину полного и странного молчания английских писателей и поэтов, ни единой печатной строкой не откликнувшихся на смерть Потрясающего Копьем (кто бы он ни был и когда бы ни умер — в 1612 или 1616 г.). Только после выхода в свет в 1623 году опекаемого Пембруками Великого фолио, определившего контуры будущего культа, с имени Шекспира был снят неписаный запрет, хотя никаких определенных биографических данных о нем по-прежнему не появляется. Правда, поэт и драматург Томас Хейвуд начал в 1614 году писать фундаментальное сочинение «Биографии всех английских поэтов», где не могло не быть главы о Шекспире, но, как и следовало ожидать, сочинение бесследно исчезло.
Своей пьесе «Магнетическая леди» Джонсон явно придавал особое значение, так как дал ей подзаголовок «Примиренные хуморы». Во вступительной части пьесы приказчик «поэтической лавки» Бой объясняет покупателям, что этот автор, начав изучать и показывать «хуморы»11* в пьесе «Каждый в своем хуморе», продолжил эту работу в пьесе «Каждый вне своего хумора» и других пьесах, а теперь завершает ее в давно задуманном им произведении о леди, которая примиряет все «хуморы». Хотя имя этой леди «Лоудстоун» и означает «магнит», название пьесы не следует понимать как «Магнетическая леди» (объясняет Бой), поскольку слово «Magnetic» образовано здесь от латинского magna — великая, величественная. Такое разъяснение «приказчика поэтической лавки» указывает, что речь в пьесе идет о вещах, далеких от обыденности. Хотя леди Лоудстоун — действительно магнит, притягивающий и объединяющий вокруг себя самых различных людей, автор устами своего персонажа рекомендует читать название пьесы как «Великая леди»12*.
Герои пьесы участвуют в некоем таинственном предприятии, о характере которого можно догадаться по словам мистера Интреста (Барыш): «То, что для вас становится предметом чтения и изучения, для меня — обычная работа». Очевидно, речь идет об осуществлении какого-то издательского проекта. Потом внимание действующих лиц сосредоточивается на племяннице Великой леди, которая оказывается беременной, все ждут появления повивальной бабки, призванной «помочь появлению на свет младенца и освободить всех от мучений». Потом все рассматривают «младенца». «Вашего имени на нем нет», — говорит математик Компасс адвокату Прэктайзу, который отвечает: «На нем есть моя печать, и оно зарегистрировано. Я тесно связан с вами, мистер Компасс, и вы имеете права на мою долю». Затем он сообщает новость: Тинвит (Тонкий ум) — генеральный смотритель «проекта» — умер. Герои отправляются с «младенцем» и колыбелью в поданной им карете завершать свой «проект».
В «поэтической лавке» умный Бой специально обсуждает с «покупателями» коварный вопрос, кого именно автор изображает под маской того или иного персонажа пьесы. Бой уклоняется от прямого ответа на этот вопрос и объясняет, что в аллегорически преображенных героях действительно отражены черты определенных людей, но герои пьесы не являются их точными копиями. «Замок», запирающий пьесу, не открывается подобным ключом.
Секрет в пьесе есть, но его нельзя раскрывать. Повивальная бабка говорит об этом вполне определенно: «Мы не должны разглашать эти женские секреты. Мы можем все испортить, если откроем секреты артистической уборной и расскажем, как и что там делается. Тогда театры не смогут больше обманывать видимостью правдоподобия зрителей, также поэтические лавки — читателей, а потом — столетия и людей в них». Последняя фраза весьма многозначительна!
Постановка в 1632 году и печатание этой пьесы были связаны с какими-то серьезными трудностями, о чем свидетельствуют обвинения, выдвинутые против цензора, автора и актеров, и две петиции в высокие инстанции, содержащие их уверения в своей невиновности.
Характер «проекта», осуществляемого героями пьесы, обстоятельства появления и оформления «младенца», многозначительные слова «повивальной бабки» (так называл себя издатель Э. Блаунт) о театральных и издательских секретах и о веках и людях, которые не должны этих секретов знать, говорят за то, что Джонсон в основательно и сознательно запутанной сценической форме рассказывает об издании за десятилетие до этого Первого шекспировского фолио, о крестной матери и главной фигуре этого «проекта» — Великой магнетической леди, Мэри Сидни-Пембрук — и о ее верных помощниках.
Только изучение исторических и литературных фактов, имеющих отношение к «поэтам Бельвуарской долины», к чете Рэтлендов, позволяет понять многочисленные и многозначительные намеки, разбросанные в стихотворениях, пьесах и масках Бена Джонсона. Он неоднократно подтверждал, что знал Шекспира, — значит, он знал, кто был Шекспиром; Рэтленды и Пембруки — единственные из «претендентов», к кому Джонсон был близок. Одно это делает прочтение каждого его свидетельства бесценным, ибо нити покрова грандиозной мистификации, скрывающей от человечества смысл явления, составляющего славу всей эпохи, мастерски вплетены во многие произведения Джонсона. Не имея возможности сказать все открыто, он позаботился, чтобы потомки смогли эти нити когда-нибудь опознать, и отметил их неоднократно. Здесь я коснулся только некоторых из них.
Знал непростую правду о Потрясающем Копьем и Джон Марстон. В анонимно изданной еще в 1598 году книге «Бичевание мерзости» («Scourge of Villanie») он обращается к некоему гениальному, но скрывающему свое имя писателю:
«Далеко разошлась твоя слава,
Высоко, высоко мною чтимый,
Чье скрытое имя обрамлено одной и той же буквой»13*.
И далее Марстон предвидит время, когда скрытое пока имя этого гения займет подобающее его несравненным достоинствам почетное место, а его маски, его «обезьяны» будут отброшены.
В XX веке пробудился интерес к творчеству Джона Донна (1572—1631), одного из крупнейших поэтов шекспировской Англии. Его изучают, анализируют, переводят14*, классифицируют. Однако мало кто выразил удивление тем, что Донн, хорошо знавший почти всех писателей и поэтов тогдашней Англии, ни разу не назвал имя величайшего из своих современников — Уильяма Шекспира — и никак не откликнулся на его смерть, хотя написанная в 1622 году посвященная Шекспиру элегия Уильяма Басса, о которой я уже говорил, впервые появилась в посмертном издании сочинений Донна (очевидно, она была найдена среди его бумаг). Джон Донн не мог не знать и Рэтленда, вместе с которым принимал участие в Азорской экспедиции Эссекса. В течение нескольких лет Донн помогал капеллану Рэтленда Томасу Мортону. Участвовал Донн и в панегирическом сопровождении Кориэтовых книг. Он хорошо знал «Блестящую Люси» — графиню Бедфорд, ближайшую подругу Елизаветы Сидни-Рэтленд, и часто бывал в ее доме; к графине Бедфорд обращены несколько его поэтических работ. Донн не мог не знать дочь Филипа Сидни, его не мог не поразить ее трагический и жертвенный уход. В 1621 году он стал деканом собора Св. Павла, где она была захоронена, и ему об этом безусловно было известно. Однако он ни разу открыто не назвал ее имени, так же как и имени Рэтленда15*.
Но бельвуарская чета, особенно Елизавета, присутствует в поэтическом наследии Донна часто, хотя в силу особенностей мироощущения и творческой манеры поэта (а вероятно, и большей верности обету молчания) их образы проступают в его строках более «метафизически», чем у его друга Бена Джонсона, которого необходимость молчать терзала почти физически. В стихотворении «Похороны» Донн просит тех, кто будет готовить его тело к погребению, не задавать ненужных вопросов и не трогать талисман-браслет из пряди волос, надетый на его руку (об этом браслете он говорит и в стихотворении «Реликвия»). Этот талисман — знак тайны, которой никто не должен касаться, ибо это другая душа поэта, напоминание о той, кого взяли небеса. Этот талисман оставлен ею, чтобы вдохновлять и поддерживать мысль поэта — ведь эта прядь «росла когда-то так близко от гениального ума», она могла впитать в себя частицу его силы и искусства. Та, что оставила этот талисман, думала, что он не даст поэту забыть ее, забыть свою боль, подобно оковам, терзающим приговоренного к смерти. Этот талисман должен быть захоронен вместе с ним, «ибо я мученик любви, и, если реликвия попадет в чужие руки, это может породить идолопоклонство».
Джон Донн
Та, что оставила поэту свой талисман, была подлинным чудом, — всех слов и всех языков мира не хватило бы, чтобы рассказать правду о ней. В этом таинственном, полном неизбывной боли стихотворении (такую же боль ощущаешь, читая элегию Бомонта на смерть Елизаветы Рэтленд) Джон Донн, именуя и себя «мучеником любви», прямо повторяет название честеровского сборника.
В собраниях сочинений Донна можно найти поэтическое письмо, написанное им совместно с поэтом Генри Гудиа некоей анонимной поэтической паре; Донну принадлежит половина строф, другая половина — Гудиа (поочередно). Поэты направляют своим адресатам это послание как клятву верности, отдают себя в полное им подчинение. Неведомая поэтическая пара сравнивается с солнцем, которое согревает всех, в них двоих живут все музы. Донн и его друг жаждут встретиться с ними. «В пении соловьев мы слышим ваши песни, которые превращают целый год в сплошную весну и спасают нас от страха перед осенью... О, если бы мы могли выразить наши мысли с помощью чернил и бумаги, бумага не смогла бы выдержать на себе их груз». Поэты считают для себя великой честью писать своим адресатам, ибо, «обращаясь к вам, наше письмо приобщается к вечности».
К кому же тогда (1608—1610 гг.) в таком тоне, с таким бесконечным преклонением, к каким двум бессмертным гениям, соединяющим в себе все музы, могли обращаться Джон Донн и Генри Гудиа — сами выдающиеся и прославленные поэты своего времени? Биографы и комментаторы Донна затрудняются даже высказывать какие-то предположения на этот счет, ибо, как правило, ничего о «поэтах Бельвуарской долины» не знают. А ведь единственной анонимной поэтической парой, к которой Донн и Гудиа могли тогда обращаться с таким посланием, была именно бельвуарская чета...
Памятник Джону Донну — единственная статуя в соборе Св. Павла, уцелевшая во время Великого пожара в 1666 г.
Исследователи, занимавшиеся шекспировской поэмой о Голубе и Феникс и честеровским сборником, отмечали явное использование ключевых образов и выражений оттуда в поэме Гудиа из книги «Зерцало величия» (1618 г.) и в таинственной (как часто приходится употреблять это слово!) донновской «Канонизации»; на этом основании делалось предположение, что анонимные стихотворения в честеровском сборнике, возможно, написаны Гудиа и Донном (Неизвестный и Хор Поэтов). Такую возможность исключить нельзя, но для ее проверки требуются дополнительные сложные исследования. А вот то, что «Канонизация» вполне могла бы стать частью честеровского сборника «Жертва Любви», — бесспорно.
Стихотворение «Канонизация» начинается обращением лирического героя к некоему другу: «Во имя Бога, молчи и не мешай мне любить / Или брани мои параличи, мою подагру, / Мои несколько седых волос, презирай мое расстроенное состояние...» Он продолжает: «Увы, увы, кому моя любовь принесла вред? / Какие корабли затоплены моими вздохами? / Кто скажет, что мои слезы залили его поля?..» Заметим, что слабость, раннее старение, подагра, параличи (спазмы сосудов головного мозга) — это болезни, от которых страдал Рэтленд, и его же долго мучили долги и расстроенные дела. А необыкновенная благоговейная любовь («не страсть, а мир, покой»), ассоциирующаяся со слезами, с потоками слез, — это ведь отношения бельвуарской четы, столь мучительные для обоих, их платоническая любовь, делающая их единым духовным целым...
«Называй нас, как ты захочешь — такими нас сделала любовь. / Назови ее одним, меня другим мотыльком. / Мы также — догорающие свечи, и мы умираем по своей воле / И в самих себе мы находим орла и голубку. / В загадку Феникса нами вложено много ума, / Мы двое являемся одним. / Так оба пола образуют одну нейтральную вещь. / Мы умираем и восстаем, и утверждаем / Тайну этой любовью. / Эта тайна может умертвить нас, если не будет этой любви».
Мы слышим голос героев честеровского сборника, голос Голубя и Феникс: «Если наша легенда не подходит для надгробных памятников и катафалков, она годится для поэтических строк. И если мы избегаем занимать место в летописях, мы построим себе уютные гнезда в сонетах; ибо искусная урна может хранить величайший прах, как самые пышные гробницы и памятники. И в этих гимнах мы будем канонизированы».
Заключительная строфа:
«И тогда все будут взывать к нам:
Вы, кого благоговейная любовь сделала надежным убежищем друг для друга,
Вы, для кого любовь была покоем и миром, а не слепой страстью,
Вы, чьи глаза смогли увидеть самую сущность этого мира
И, подобно волшебным зеркалам,
Вместить и отразить все увиденное:
Страны, города, дворцы владык... Просите небеса,
Чтобы нам было дано следовать примеру вашей любви».
Совершенно ясно, что речь идет о духовном слиянии, о совместном поэтическом (сонеты, гимны) творчестве. Герои постигают мир, чтобы потом волшебной силой творческого преображения воссоздать его в своем искусстве, своей неподвластной времени поэзии. Как и честеровские Голубь и Феникс, герои Донна тайно служат Аполлону, «избегая занимать место в летописях».
Если литературоведы прошлого не скрывали своей беспомощности перед этими потрясающими строками, то сегодняшние западные специалисты по Донну нередко пытаются вчитать в «Канонизацию» некую метафизику сексуального переживания, не понимая или делая вид, что не понимают чисто духовного характера любви, связывающей героев и неотделимой от служения высокому искусству. Но ведь и в случае с честеровским сборником современные последователи гипотезы К. Брауна готовы видеть в поэме-реквиеме по Голубю и Феникс свадебный гимн! Впрочем, недаром мы читаем в «Канонизации», что в загадку Феникса вложено много ума; в этом, как мы уже знаем, могло убедиться не одно поколение ученых.
Итак, герои «Канонизации» — это герои честеровского сборника, Голубь и Феникс, необыкновенная поэтическая чета, покинувшая мир в полном молчании, оставив после себя лишь несравненное Совершенство — свои великие творения, свой единственный настоящий памятник. «И Мэннерс ярко сияет в своих... строках, в каждой из которых он как бы потрясает копьем перед глазами незнания...»
«Канонизация» принадлежит к тем произведениям Донна, точная датировка которых затруднена; в последнее время было высказано мнение, что она относится к концу первого — началу второго десятилетия XVII века. Напечатано стихотворение было только в первом посмертном издании 1633 года, где кроме бесспорно донновских были и чужие оказавшиеся среди его бумаг и попавшие к издателю произведения. Но писал ли это потрясающее откровение Джон Донн, видя перед собой Голубя и Феникс (когда они умерли, Донна, как и Джонсона, не было в Англии, он вернулся домой через месяц после этого трагического события), или это предсмертные строки самого Голубя, их связь с поэмами честеровского сборника бесспорна (в какой-то степени с этим согласны все исследователи)16*. И тайна загадочных произведений открывается одним ключом. Этот ключ — Бельвуар.
В 30-х годах XVII века не стало Джонсона, Донна, Дрейтона, Пембрука, многих других представителей шекспировского поколения, лично знавших Потрясающего Копьем. Еще раньше умерли Саутгемптон, Бэкингем, графиня Бедфорд, король Иаков. В стране назревали грозные события. В 1640 году был созван Долгий парламент, и вскоре началась его война с королем, закончившаяся победой пуритан, запретивших театральные представления; музы прозябали. Следующее, третье издание шекспировского Фолио вышло после Реставрации, в 1663 году, когда почти никого из современников Шекспира уже не было в живых. Произведения Потрясающего Копьем, «его сироты», перешли под опеку новых поколений, принявших и канонизировавших легенду о нем. Бельвуарская чета обрела столь желанное ей забвение — в течение нескольких столетий никто о Рэтлендах не вспоминал.
Примечания
*. О том, что автором надписи на стратфордском памятнике, возможно, был однокашник Рэтленда поэт Джон Уивер, мы уже говорили.
**. Вулкан — бог огня в римской мифологии. Отмечаю это только потому, что на русский язык название этого стихотворения Джонсона часто переводили неправильно, как «Извержение вулкана».
***. Вспомним, что именно так, с ухмылкой, говорил о своем слабом владении латынью и греческим Томас Кориэт, хотя выпущенные под его именем книги буквально кишат текстами на этих древних языках. Джонсон, похоже, прямо «цитирует» Кориэта!
****. На берегу другого Эйвона жила Мэри Сидни-Пембрук, причем напротив ее поместья Уилтон располагалась деревушка, название которой — Стратфорд! А на портрете-гравюре 1618 г. кружевной воротник ее платья украшают изображения лебедя...
5*. Читатели, владеющие английским языком, могут сами проанализировать эти шекспировские сонеты, так же как и стихотворения Джонсона, о которых дальше идет речь.
6*. В одном анонимном стихотворении начала XVII в. таланты Джонсона как эпиграммиста ставились под вопрос. Есть основания считать, что стихотворение написано или инспирировано Рэтлендом, отношение которого к Джонсону ввиду оправданных сомнений в способности последнего держать язык за зубами было непростым. Большинство шекспироведов считает, что и отношение Бена Джонсона к Шекспиру было очень непростым.
7*. Курсив мой. — И.Г.
8*. Race — порода, род, происхождение.
9*. Джонсон не раз обыгрывал смысловое значение имен своих современников (например, де Вера, Редклиффа и других).
10*. Нельзя сказать, что до нас никто из шекспироведов и джонсоноведов не обратил внимания на эту отнюдь не случайную запятую, которая мешает им привычно упрощенно (и искаженно) прочитывать важнейшую джонсоновскую строку. Да и любой внимательный читатель английского оригинала споткнется на ней: зачем Джонсон вставил ее здесь, разорвав сложное предложение таким образом, что manners оказывается единственным подлежащим, к которому относится сказуемое shines («сияет»)? Будучи не в состоянии ответить на этот вопрос, некоторые сегодняшние англо-американские ученые обходятся со знаменитой поэмой довольно бесцеремонно. Помещая джонсоновский панегирик в своих насыщенных эрудицией переизданиях Шекспира, они спокойно выбрасывают (без каких-либо оговорок!) мешающую им «вредную» запятую. Именно так «исправили» Джонсона издатели последнего оксфордского полного собрания сочинений Шекспира — ведущие английские шекспироведы Стэнли Уэллс и Гэри Тэйлор8.
11*. Хумор — так Джонсон называл преобладание в человеке какой-либо черты, приобретающей характер сатирической маски.
12*. На русский язык название пьесы переводилось как «Магнетическая леди» или «Притягательная леди». С учетом авторских разъяснений, очевидно, оптимальным вариантом была бы «Великая магнетическая леди».
13*. Имя Рэтленда-Роджер — начинается и заканчивается одной и той же буковой «Р».
14*. Из русских переводов Донна известность получили переводы Иосифа Бродского; из литературоведческих работ можно отметить книги А.Н. Горбунова и С.А. Макуренковой10.
15*. Удивительна, даже мистична судьба надгробного памятника Джону Донну, похороненному в соборе Св. Павла. Памятник необычен и сам по себе: согласно своей последней воле, Донн изображен в смертном саване, стоящим на невысокой узкой урне, как бы оберегая заключенный в ней прах. Во время Великого пожара 1666 г. все памятники в соборе Св. Павла погибли, от них остались лишь изуродованные почерневшие обломки. Только один-единственный памятник был найден невредимым среди ужасных руин — статуя Джона Донна на хрупкой урне. И сегодня, столетия спустя, поэт-священник стоит на своем месте в усыпальнице собора, продолжая оберегать вечный покой доверившихся его попечению душ.
16*. Не исключено, что «Канонизация» (если она написана Донном) предназначалась для честеровского сборника, но по каким-то причинам не была в него включена.
1. Аникст А.А. Указ. соч., с. 363—364.
2. См.: William Shakespeare. The Complete Works. General Editors Stanley Wells and Gary Taylor. Clarendon Press. Oxford, 1994, p. XLVI.
3. См.: Randell D.B. The Jonson's gypsies unmasked. Durham, 1975, p. 13.
4. Горбунов А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVI—XVII вв. М., 1993. Макуренкова СА. Джон Данн: поэтика и риторика. М., 1994.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |