Разделы
Счетчики
Глава первая. Викторианцы
Викторианское мироощущение. Зрелищная режиссура Чарльза Кина. Прерафаэлиты. Разговорная режиссура Генриха Лаубе в венском Бургтеатре. Трагики-гастролеры. Мейнингенцы. Генри Ирвинг и Эллен Терри в театре Лицеум.
В конце XIX в. в театрах Европы совершались важные перемены. Режиссеры-новаторы Германии, Франции, России выдвигали идеи радикального преобразования сценического искусства. Их смелые начинания одних озадачили, другими были встречены с сочувствием. Многие видели, что театральное дело ведется из рук вон плохо, что старые традиции выдохлись: искусство сцены утратило былой престиж. Духовно бедный репертуар, окостеневшие формы спектакля, однообразно шаблонная манера актерской игры наскучили публике. Все это внушало новаторам надежду, что их экспериментальные постановки привлекут к себе внимание. Хорошо известно, что так оно и вышло: первым шагам театральных новаторов континента сопутствовали шумные успехи.
В Англии, где идеи обновления сценического искусства попытался осуществить молодой Гордон Крэг, общая эстетическая коллизия выглядела иначе, нежели на континенте. Английский театр не мог пожаловаться на равнодушие публики. Особенно большой популярностью пользовались шекспировские спектакли лондонского Лицеума, театра Генри Ирвинга. Шекспировская традиция английского театра XIX в., которую Крэг застал в пору ее предзакатного цветения, заслуживает пристального внимания. Речь идет о викторианской традиции и о викторианском Шекспире.
Королева Виктория восседала на английском престоле более шести десятилетий: с 1837 по 1901 г. Она взошла на трон через несколько лет после смерти некоронованного, но великого театрального властелина, трагика Эдмунда Кина. Его триумфы сопряжены с шекспировскими ролями Гамлета, Отелло, Ричарда III, Макбета, Ричарда II, его искусство обладало отчетливо романтической интонацией. Сын Эдмунда Кина, Чарльз Кин, противопоставил необузданному темпераменту отца искусство другого склада и тона. В спектаклях Чарльза Кина викторианская шекспировская традиция впервые сложилась в ее основных, определяющих чертах.
Чарльз Кин стоял во главе лондонского театра Принцессы всего девять лет: в 1850 г. он возглавил театр, в 1859 г. оставил его. Время деятельности Чарльза Кина было порой торжества и взлета специфически викторианского мироощущения.
Авторы содержательного предисловия к изданной в 1969 г. антологии «Викторианский образ мысли»1 Дж. Ковар и Дж. Соренсен считают, что «оптимизм и сопутствовавшее ему самодовольство» — наиболее характерные настроения времен Виктории. И хотя эта формула поначалу производит впечатление чересчур грубой, она убедительно подтверждается анализом духовного климата эпохи. «Средний викторианец не мог не чувствовать, что живет если и не в лучшем из миров, то по крайней мере в таком мире, который становится день ото дня все лучше и лучше. Прогресс, с точки зрения викторианцев — не только материальное, но также и нравственное, и политическое развитие, причем и то, и другое, и третье были тесно между собой связаны... Изменения английского общества в XIX веке были постепенными, эволюционными».
Бурные социальные катаклизмы совершались на континенте. На Британских островах, в сердцевине империи, чьи владения простирались по всему свету и над землями которой «никогда не заходило солнце», торжествовала государственная стабильность. Это отнюдь не означает, что в Англии царил классовый мир. Напротив, именно в Англии, раньше, чем в других странах Европы, возникло мощное и сплоченное рабочее движение. Но факт остается фактом: «викторианская эра избегла крайностей, ситуация ни разу не вылилась в революционное насилие, которое на континенте, особенно в первой половине XIX века, привело к ниспровержению практически всех существующих правительств»2.
Здравый смысл, которым руководствовалась королева, поощряя развитие промышленности и свободу торговли, умело дирижируя общественным мнением и в разумных пределах допуская реформы, казалось, усвоили все ее подданные. Могущество империи придавало респектабельность, самоуверенность и апломб ее аристократам, чиновникам, офицерам, предпринимателям, банкирам, дельцам, торговцам, судовладельцам и т. д., и т. п. Всякий уважающий себя человек стремился располагать «викторианскими добродетелями, — как то: трудолюбием, силой воли, способностью полагаться на самого себя»3. Благопристойность котировалась высоко, нравственные принципы обладали пуританской строгостью, пороки дружно осуждались и тщательно скрывались. С легкой иронией Ковар и Соренсен замечают: «Все молодые женщины были чувствительны и непорочны... Скромность почиталась добродетелью, самодовольство — высшим достоинством. Темно-красный плюш был любимой драпировкой викторианцев, их мебель была вычурно уродливой; к концу века они пользовались для освещения газовыми рожками и наслаждались бездумным уютом». Весь этот пассаж кончается, однако, примечательной оговоркой: «И вместе с тем, самих викторианцев никак не назовешь бездумными»... Более того, авторы, которых мы цитируем, пишут о «напряженной интеллектуальной деятельности, которая отличала Англию XIX века»4.
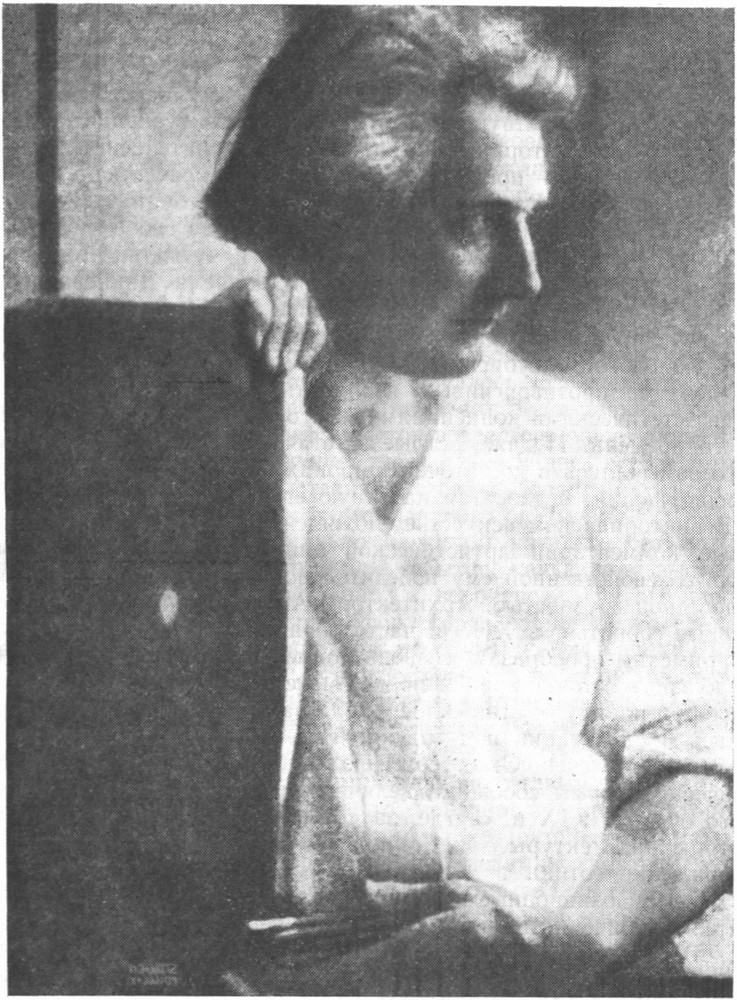
Эдвард Гордон Крэг, фото 1910 г.
Духовные богатства, созданные английской культурой прошлого столетия, свидетельствуют о том, что «интеллектуальная деятельность» в годы Виктории действительно была интенсивной. Некоторые ее аспекты — преимущественно в сфере искусства — мы неизбежно затронем. Распространенные суждения, будто самодовольство и ханжество «среднего класса» повлекли за собой чуть ли не тотальное падение художественного вкуса и чутья викторианцев, слишком категоричны. Время Виктории — время Диккенса, Теккерея, Троллопа, Карлейля, Теннисона, Браунинга, Рескина и Морриса, прерафаэлитов и Бердсли, Оскара Уайльда, молодого Шоу, молодого Голсуорси и т. д. Все эти художники находились в сложных и противоречивых взаимоотношениях с господствующими эстетическими концепциями своего времени, но никак не вне своего времени. И даже острые эстетические конфронтации чаще всего замыкались в достаточно широких пределах викторианского мироощущения, не посягая на самую его суть.
В викторианском искусстве сложился (вызывая подчас насмешливые комментарии артистической элиты) особый «апофеозный» стиль со свойственной ему победительной торжественностью и тяжеловесной грузностью. Архитекторы Англии, как и их континентальные собратья, в XIX в. часто обращались к древнегреческим или римским прообразам, возводя новые городские здания, вполне буржуазные с точки зрения предназначенных им функций. В годы Виктории наряду со стилизацией под классику широко распространилась и стилизация под готику. Так, например, здание Парламента было облечено Огастусом Пьюджином «в готические одеяния»; готические формы сообщили величавость новому зданию Лондонского суда. В XIX в. «нигде, за исключением Англии, — замечает историк архитектуры, — не приобрело столь широкого размаха» возрождение готики5.
Даже оппозиционные по отношению к парадному искусству мыслители, утонченный Джон Рёскин и темпераментный Уильям Моррис, тоже с готовностью присягали готике. Рёскин называл готику «не только лучшей, но и единственно разумной архитектурой, ибо она с наибольшей легкостью может служить и простонародью, и знати»6. Моррис не менее твердо заявлял: «...сегодня имеется лишь один стиль архитектуры, на котором можно возводить настоящее живое искусство, свободное и способное приспосабливаться к изменяющимся условиям социальной жизни, климата и прочего, и стиль этот представлен готической архитектурой... Поэтому наша архитектура должна в будущем стать по своему стилю готической»7.
Примечательно не только такое единодушие в отношении к готике. Примечательно, что Рёскин и Моррис, оба, размышляя о стиле современного искусства, вполне по-викториански рассматривают художественное наследие прошлого как своего рода кладовую, и вся задача сводится к тому, чтобы из этой кладовой, из этой коллекции, выбрать нужный образец, подходящий стиль.
Впрочем, и тогда, когда осуществлялись оригинальные строительные идеи, забота о репрезентативности, о впечатлении мощи и грандиозного размаха чувствовалась во всем. В 1850 г., в тот самый год, когда Чарльз Кин возглавил театр Принцессы (заметим, что викторианская хронология очень выразительна и что к этой дате — 1850 — нам еще придется вернуться), под руководством принца Альберта, мужа королевы, началось строительство Хрустального дворца — выставочного здания в Гайд-парке. Меньше, чем за четыре месяца Джозеф Пакстон возвел огромное, длиной более полукилометра, сооружение, где и разместилась в 1851 г. первая всемирная «великая выставка», которую Ковар и Соренсен называют типичным примером викторианского оптимизма.
Действительно, в специально изданном каталоге без ложной скромности сообщалось, что «такое событие, как данная выставка, не могло иметь места в иной период и, вероятно, у другого народа, кроме нашего», а сам принц-консорт гордо заявлял, что всякому посетившему выставку должно быть ясно: «мы живем в эпоху самого стремительного движения к осуществлению великой цели всей истории, к достижению единства всего человечества»8. Прообраз «единства человечества» и предлагался под стеклянной крышей Хрустального дворца.
Коль скоро викторианское мироощущение так быстро и так явно выказывало себя в зодчестве, то, конечно, в театре викторианский дух чувствовался еще более сильно. Деятельность Чарльза Кина — наглядный тому пример. Современники, которые могли сравнивать младшего Кина со старшим, отзывались об актерских возможностях руководителя театра Принцессы довольно прохладно. Критик Дж. Х. Льюс в 1852 г. писал: «Чистосердечно говоря, я никогда не считал и не считаю Чарльза Кина трагическим актером»9. Английский театровед Б. Джозеф заметил, что Кин-младший, в отличие от Кина-старшего, никогда не выражал страсти открыто, в полный голос, а довольствовался «тихой интенсивностью» и «сдержанной силой»10. «Чарльз, — утверждал итальянский трагик Эрнесто Росси, — уступал отцу не только дарованием, но и внешним обликом... Он был малорослый, непривлекательный, с надтреснутым гнусавым голосом»11.
Но если Эдмунд Кин не передал в наследство Чарльзу свой гений, то он зато поместил сына в Итон. Чарльз Кин получил образование в аристократическом колледже. В результате театр Принцессы возглавил человек, обладавший большими познаниями в области философии, истории, литературы. Как и отец, Кин-младший почитал Шекспира и за годы работы в театре Принцессы поставил целую серию шекспировских спектаклей. Вероятно, он сознавал, что его актерские возможности невелики и потому с самого начала перенес основной акцент с актерской игры на обстановку, на внешнее оформление спектакля. В театр Принцессы приходили не для того, чтобы пережить потрясение игрой трагика, а для того, чтобы насладиться красотой зрелища.
Это была необычайная — с характерным познавательным привкусом — красота.
Подготавливая свои масштабные, организованные с небывалой прежде тщательностью представления, Чарльз Кин опирался на новейшие достижения современной ему исторической науки. Сценические картины, которые он создавал на подмостках театра Принцессы, ставились с помпой, но одновременно и с большой основательностью. У Ч. Кина работали талантливые декораторы, обладавшие вкусом к историзму, любовью к точной и детальной аргументированности всего, что показывалось публике, будь то внешний облик старинного здания или его интерьер, колет или секира, тяжелое деревянное кресло или королевская мантия. Прежде чем приступить к работе над очередным спектаклем, Ч. Кин непременно советовался со специалистами, знатоками той или иной эпохи, и ему охотно давали консультации крупнейшие ученые Англии. Сам Чарльз Кин прилежно штудировал пьесу задолго до начала репетиций, причем предметом его внимания становились в первую очередь нравы, обычаи, характерные приметы определенного образа жизни. И хотя Шекспир отнюдь не щедр на такого рода подробности, Ч. Кин их упорно выискивал.
Любовь Ч. Кина к Шекспиру была, однако, чувством фамильярным и довольно бесцеремонным. Ч. Кин вглядывался в Шекспира глазами читателя Вальтера Скотта и, в идеале, хотел бы Шекспира к Скотту приблизить. В Англии середины XIX в. романы Скотта были излюбленным чтением просвещенной публики, а их автор — властителем дум и законодателем вкуса. Сложившийся под пером Вальтера Скотта жанр исторического романа импонировал викторианцам уже потому, что в его произведениях прослеживался процесс слияния Англии и Шотландии в единое мощное государство. Скотт славил мужественного, волевого героя. Весь исторический антураж, все аксессуары воспроизводились любовно, политические интриги прошлых времен — с отменным знанием дела. Бесспорно, Скотт многому учился у Шекспира, и в лучших эпизодах его романов заметно шекспировское влияние. Но в XIX в. уже сам Шекспир воспринимался сквозь призму вальтерскоттовского историзма.
В эпоху королевы Виктории жажда познания неуловимо смыкалась с жаждой присвоения. Английские мореплаватели открывали в просторах мирового океана новые земли, и как только они впервые наносили на карту неведомые острова, империя ими завладевала, поднимала над ними британский флаг. Английские археологи вели раскопки на территориях, где некогда существовали древние цивилизации, и их находки — старинные саркофаги, изваяния, амфоры, изделия из золота, серебра, украшенные драгоценными камнями, все, что сохранилось от египетского, ассирийского, вавилонского и классического греческого искусства, — тотчас отправлялись в Лондон, пополняя коллекции Британского музея, огромное здание которого было завершено к 1847 г. Лорд Эльгин продал Британскому музею скульптуры Парфенона и Эрехтейона, доставленные в Лондон из афинского Акрополя, Остин Лейярд — то, что ему удалось найти во время раскопок древней Ниневии. Все эти приобретения удовлетворяли жажду познания и радовали ценителей красоты. Но тем не менее, это были приобретения, умножавшие богатства империи, и нелегко было бы понять, что больше восхищает посетителя Британского музея — красота древних изваяний и вещей, их старина, или их стоимость. Викторианцам, писал Ч.П. Сноу, «дурманил голову вихрь денег, слепящий блеск ничем не сдерживаемого капитализма»12. Понятия ценности и красоты казались нерасторжимы. Прекрасное — дорого, дорогое — прекрасно. Где-то здесь, в этом пункте, таится объяснение основных законов, которым повиновалось искусство Чарльза Кина — пышное в его историзме, старательно точное во всей его пышности.
За Чарльзом Кином в истории театра прочно закрепилась репутация первого режиссера. Он был пионером кропотливой организации спектакля и впервые внес в сценическое искусство «чисто викторианскую веру в образованность». (Это меткое определение принадлежит историку английского декоративного искусства Сибилл Розенфельд13.) Другой вопрос, в какой мере совпадали научные интересы Чарльза Кина с поэтикой Шекспира, с шекспировскими гиперболами, призраками и ведьмами.
В 1853 г. Чарльз Кин предпринял постановку «Макбета». С обычной для него добросовестностью воспроизводились (соответственно тому, как представлял себе эпоху Макбета Джордж Гордон из Королевского архитектурного института, оформлявший спектакль) не только тяжелые своды и массивные колонны старинных зданий, но и костюмы, оружие, утварь, мебель и т. п. На двух уровнях монументальной декорации — на планшете и на своего рода балконе, как бы втором ярусе всей постройки — перед тяжеловесными колоннадами Ч. Кин располагал многолюдные массовки (в них участвовали свыше ста дисциплинированных, хорошо вымуштрованных статистов, и критик Дж. Х. Льюис заметил, что все они «двигаются, как по сигналу»). Зрителей театра Принцессы особенно восхищала сцена пира — «настоящий феодальный ритуал», декорация, писал рецензент, «одновременно и верна истории, и живописна, ничего лучшего в смысле театрального зрелища и желать нельзя... Все так разнообразно, так увлекательно. Кин поистине обладает редким призванием устроителя постановок»14.
Парадокс, однако, состоял в том, что поражавшая зрителей пышность зрелища требовала статики оформления. Возведя внушительную декорацию, «устроитель постановок» не мог быстро ее заменить другой, не мог, следовательно, как того требовал Шекспир, легко переносить действие с места на место, — тогдашняя техника сцены стремительных манипуляций не допускала. А потому режиссер, не меняя декорацию, менял шекспировский порядок сцен. Нередко эпизоды, которые не удавалось приспособить к статичному оформлению, попросту вычеркивались. Пиетет по отношению к историзму на текст Шекспира не распространялся.
В этом смысле режиссерская деятельность Ч. Кина полностью игнорировала усилия его непосредственного предшественника в шекспировском репертуаре, трагика Уильяма Макреди, который настойчиво восстанавливал подлинные тексты Шекспира и по возможности избегал купюр. Макреди скептически встретил нововведения Кина, утверждая, что в роскошных постановках театра Принцессы шекспировский текст «превращается всего лишь в беглый комментарий к зрелищу, а зрелище не объясняет текста»15.
Упреки Макреди были обоснованными, и не только потому, что Ч. Кин подчас небрежно обращался с текстом, но и потому, что установка на симметрию, импозантность, уравновешенность зрелища нередко вступала в противоречие с самим духом шекспировской образности. Центральная осевая линия неизменно вела прямо от суфлерской будки к воображаемой точке посреди задника, а справа и слева от этой оси располагались одинаковые, чаще всего грузные объемы: колонны, арки, своды и т. п. Симметрия благоприятствовала общему впечатлению величия, но не соответствовала внутренней подвижности шекспировских трагедий и комедий.
Ч. Кин, сближая Шекспира с Вальтером Скоттом, отдавал явное предпочтение шекспировским хроникам. Одной из больших его удач явилась постановка «Генриха VIII» (1855), где зрителей приводила в восторг огромная панорама Лондона, тщательно скопированная декоратором Фредериком Ллойдом с гравюры 1543 г. Еще более красиво устроил Ч. Кин картину, где над ложем королевы Катерины витали ангелы. Но две эти сцены были диаметрально противоположны по характеру зрелищности: первая поражала публику исторической достоверностью (вплоть до барж, которые плыли по Темзе), вторая — оперной фееричностью.
Такое совмещение историзма и оперности последовательно проводилось и в спектаклях 1856 г. — «Зимняя сказка» и «Сон в летнюю ночь». Обе эти постановки, как замечает английский театровед Роберт Спейт, отличались характерным для Ч. Кина «великолепием и часто — по понятиям того времени — фантазией»16. В «Зимней сказке» публику посредством «живых картин» добросовестно информировали «о частной и общественной жизни древних греков во времена золотого века искусств... Каждая деталь, — пишет Сибилл Розенфельд, — была выписана со всей мыслимой скрупулезностью, вплоть до музыкальных инструментов и предметов бытового обихода». Зрителей изумляли «пасторальные сцены и вакхические оргии», греческие боги и богини в масках спускались с небес и исчезали в люки — под землю. «Пальму первенства тут получала живопись, а отнюдь не драматическое искусство»17.
«Сон в летнюю ночь» начинался с того, что глазам зрителей представал огромный живописный задник с видом на Афины времен Перикла. «Сценический эффект очень велик, но, — с некоторым недоумением констатировал критик Генри Морли, — этого вовсе не требует шекспировская поэма». Впрочем, эффекты, подготовленные Ч. Кином, только начинались. Задник с видом перикловых Афин сменяло другое грандиозное живописное полотно, где были изображены затейливые гирлянды цветов. На этом фоне, справа и слева замкнутом силуэтами ветвистых деревьев, Ч. Кин с упоением группировал феерические «волшебные» сцены комедии. Сохранившиеся зарисовки (где, между прочим, можно разглядеть и девочку Эллен Терри в роли Пэка) производят впечатление картин балетного, а не драматического спектакля: десятки статисток в белых пачках движутся однообразно-грациозными шеренгами в непременно «красивых», обязательно «поэтичных» позах. «Шекспир, — продолжал Морли, — дал повод ухищрениям изощренного балетмейстера, точно так же, как панорама Афин во всей их славе понадобилась только для того, чтобы театральный художник мог показать свое мастерство... Мы получаем феерический балет, блестящие костюмы, феерию во всю ширину сцены»18.
Балетная образность, сквозившая в «волшебных» сценах «Сна в летнюю ночь», напоминала хореографию Жюля-Жозефа Перро который в 40-е годы работал в лондонском Королевском театре и заворожил англичан красотой танцевальных ансамблей в спектаклях именно фантастически-феерического характера, таких, как «Ундина» (1843), «Долина» (1845), и в романтических балетах «Эсмеральда» (1844), «Катарина, дочь разбойника» (1846). Без сомнения, Чарльз Кин в массовых сценах «Сна в летнюю ночь» шел по следам Перро, а многие постановочные приемы заимствовал из практики оперного театра. Театр Принцессы был первым в истории английской сцены придворным драматическим театром. Эстетика придворных оперных и балетных спектаклей вполне отвечала вкусам его зрителей.
Примерно такого же плана были и средства сценической выразительности спектакля «Буря» в декорациях Уильяма Телбина (1857), здесь Ч. Кин пользовался еще и световыми эффектами: панораму спокойного моря заливал солнечный свет, затем сгущалась темнота, морская гладь приходила в волнение, а когда буря стихала, свет снова становился ровным и ясным.
«Зимняя сказка», «Сон в летнюю ночь», «Буря» все же не самые типичные работы Ч. Кина. В принципе палитра Ч. Кина отдавала предпочтение иной красоте, с оттенком мужественности, с акцентом на мощь и воинственную патетику вальтерскоттовского склада. В «Ричарде II» (1857) Чарльз Кин размещал актеров одновременно и возле рампы, и в глубине сцены, и на планшете, и на высоких игровых точках — на лестницах, крепостных стенах и башнях. Эпизод въезда Болинброка в средневековый Лондон с его узкими улочками, заполненными толпами статистов, вызвал полное одобрение критиков.
В «Венецианском купце» (1858) сенсацию произвела попытка Ч. Кина использовать бурный и причудливый хоровод масок на гондолах и мостах Венеции в качестве «фона личной судьбы Шейлока»19.
Все шекспировские герои, которых Ч. Кин сыграл, даже Ричард III, никогда о своем королевском достоинстве не забывали, держались с приличествующей монархам важностью. Если зарисовка середины 1850-х годов нас не обманывает, то играть Ричарда III горбатым Ч. Кин не пожелал, это не соответствовало бы его толкованию роли. Пусть Ричард злодей и урод, важнее другое: Ричард — король. С дагерротипа середины XIX в. смотрит на нас Макбет — Ч. Кин: гордая поза, ноги слегка расставлены и словно попирают земную твердь, шотландская юбка прикрыта блестящей кольчугой, рука крепко сжимает кинжал — конечно, воитель, вполне вероятно, жестокий, но прежде всего монарх, властелин.
И все же эти импозантные короли занимали в режиссерских построениях отнюдь не самое заметное место. Грандиозные массовые сцены спектаклей Ч. Кина всегда как бы поглощали фигуру героя.
В последнем и, возможно, лучшем шекспировском спектакле Ч. Кина — в «Генрихе V» (1859) историзм и оперность, характерные для его массовок, слились воедино довольно причудливым образом: поставленная с невероятным размахом сцена въезда короля в Лондон разыгрывалась на фоне башен Тауэра, площади была запружена пестрой, ликующей толпой, горожане высоко вздымали знамена, размахивали шапками, приветствуя царственного всадника на белом коне, а сверху, с крепостных стен белокрылые ангелы осыпали его золотыми конфетти. И в центре сцены к молодому королю в едином порыве простирали руки такие же белокрылые ангелы в балетных пачках. Как ни странно, в руках у них были бубны. Художник той поры запечатлел эту поразительную картину в красках20, мы можем теперь по достоинству оценить и ее общий золотистый колорит, и ее абсолютно симметричную, стянутую к центру — к конной фигуре короля — компоновку.
Один из английских авторов в конце XIX в. утверждал, что спектакли Кина принадлежали «не столько театру, сколько великолепному музею», что в них «все дышало живой правдой, выраженной взволнованно и великолепно, видимой словно бы сквозь поэтическую дымку»21.
Ореол «научности», «музейности», «антикваризма» и «археологизма», возникший вокруг спектаклей Ч. Кина, объясняется просто: конечно, до него никто такой заботы о насыщенности зрелища историческими аксессуарами не обнаруживал. Шекспировские творения служили тут поводом для создания сценических иллюстраций на исторические темы: вот какова была Шотландия времен Макбета, вот каков был Акрополь времен Перикла, вот как выглядел средневековый Лондон — все это театр демонстрировал, доказывая публике, что идет в ногу с наукой и всегда готов любую подробность обосновать, документально подтвердить. Изобилие подробностей казалось гарантией их достоверности. Тот бесспорный факт, что «научность» антуража нужна была Ч. Кину прежде всего во имя пышности, парадности зрелища, от внимания современников ускользал. А сто с лишним лет спустя историки театра, доверившись современникам, стали без колебаний рассматривать Ч. Кина как режиссера реалиста. К реалистам его относят и Сибилл Розенфельд, и Х. Киндерманн.
Но воспринимать искусство Ч. Кина как «реалистическое» значит сильно упрощать дело. Ведь Ч. Кин работал в театре Принцессы уже после того, как вышли в свет диккенсовские «Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей», «Жизнь и приключения Николаса Никльби». В 1850 г. был опубликован «Дэвид Копперфильд». И «Ярмарка тщеславия» Теккерея была уже известна читателям. На фоне английской прозы зрелища Ч. Кина выглядели достаточно далекими от реализма, хотя, конечно, противопоставление Кина-младшего романтику Кину-старшему как бы напрашивается само собой, особенно если учесть, что во времена Виктории явственно замечались «признаки враждебного отношения к крайностям байронизма и влиянию Вордсворта»22, да и других романтиков.
И все же выводы из этого противопоставления надо делать с большой осмотрительностью. Соблазн отнести весь конгломерат средств выразительности, которыми пользовался Ч. Кин («научность» и красивость, вальтерскоттовский историзм и сентиментальность, иллюстративность и жажда роскоши, тяжеловесность декора и балетная грациозность массовок), к характерному для викторианской эпохи эклектизму тоже велика, ибо эклектизму свойственно, как это и делалось в театре Принцессы, пользоваться старыми готическими, ренессансными или барочными формами, как своего рода украшениями, долженствующими «одеть» новые конструкции. Все же и этот термин мы вынуждены отбросить, ибо, как и во многих других случаях, терминология, плотно охватывающая явления зодчества или изобразительного искусства, в сфере театра оказывается весьма приблизительной, неточной, к актерскому искусству неприменимой. Как ни эклектично было искусство Ч. Кина, тем не менее чаще всего ему свойственны романтические эффекты, романтическая поза, романтическая интонация. Другой вопрос, какие идеи нес с собой этот запоздалый, апофеозный романтизм.
В шекспировских спектаклях театра Принцессы совершалось быстрое и радикальное переосмысление романтической традиции. Сохраняя свое яркое оперение, романтизм тут лишался мятущейся духовной свободы, раздвоенности, сомнений, разъедающей душу иронии и болезненной остроты взаимоотношений с действительностью. Романтизм успокаивался и прихорашивался, смотрел на мир с позиции силы. Отрицание «низкой» и «пошлой» реальности, драматичное для подлинных романтиков, сменялось высокомерным презрением к будничной жизни: ее отказывались замечать, с ней больше не желали считаться. В культе грандиозной красоты, в любовании массивностью и дороговизной исторического антуража заявлял о себе викторианский пафос обладания и могущества. И если викторианская архитектура, манипулируя старинными формами, придавала готике успокоительный ритм, благопристойную уравновешенность объемов-рефренов, то викторианский театр насыщал романтический по внешности спектакль духом горделивой напористости. «Многих викторианцев, — не без доли зависти писал недавно Ч.П. Сноу, — переполняла неуемная энергия, которую мы, по-видимому, утратили навсегда»23. Эта энергия чувствовалась и в театральных представлениях: романтизировалась торжествующая сила героя. Уклоняясь от крайностей былой дисгармонии, стиль красовался, любовался собой.
Подтверждает это и осуществленная Ч. Кином постановка байроновского «Сарданапала» (1853), где Фредерик Ллойд, основываясь на материалах ниневийских раскопок Остина Лейярда, ошеломил публику умопомрачительной роскошью дворцовых залов, их ослепительно богатым убранством, тяжеловесной бронзой пылающих светильников, многокрасочной фресковой росписью стен. Зрителям «Сарданапала» в театре Принцессы раздавались «археологические листки», где приводились документальные данные о находках экспедиций Лейярда. Каждый мог убедиться, что великолепие декора «с подлинным верно». Никто не задавался вопросом, в какой мере отвечало оно смыслу и содержанию трагедии Байрона. Между тем, такой вопрос напрашивался, и ответ на него мог последовать только один: репрезентативные очертания постановки противоречили бунтарскому духу байроновской поэзии. На сцене театра Принцессы движение истории одушевлялось пафосом прогресса и мыслилось как поступательное: история тут гордо шагала вперед. В байроновском понимании история была мятежна и трагична, не обещала потомкам ни спокойствия, ни довольства и не давала никакого повода для торжественного пафоса.
Однако апофеозный романтизм шекспировских постановок Ч. Кина обладал, как выяснилось впоследствии, чрезвычайной живучестью. Роберт Спейт справедливо утверждает, что Чарльз Кин «установил зрелищную традицию» шекспировского спектакля, которая оказалась очень цепкой и очень прочной и «продержалась на сцене до тех самых пор, когда Гренвилл-Баркер и Уильям Поул поднялись, чтобы бросить ей вызов»24.
Более того, и после преобразований Гренвилла-Баркера, Поула и Крэга викторианская шекспировская традиция, стойко перенеся многие атаки, выжила, она существует поныне и сегодня еще часто о себе напоминает.
Комментируя английские шекспировские спектакли 50—60-х годов нашего века, Б. Зингерман писал: «Снова английская сценическая традиция предстала перед нами двойственной — в своей помпезности и в своем прозаизме». Критик ощутил в нынешних постановках «комфортабельную и официозную парадность» и верно отметил, что она восходит ко временам Чарльза Кина, что в ней «выразила себя целая эпоха Британской империи»25.
Первый ощутимый удар по викторианскому мироощущению вообще и по викторианскому Шекспиру, в частности, был нанесен извне, из-за пределов собственно театра. В том самом 1850 г., который мы уже неоднократно упоминали, появились номера журнала «The Germ» («Росток»), издававшегося «Братством прерафаэлитов». Прерафаэлиты, художники, поэты, теоретики искусства, сразу заявили, что главная их цель — служение культу красоты, но красоту они понимали иначе, нежели их предшественники. Для прерафаэлитов красота не была тождественна ни роскоши, ни богатству, ни силе, они искали красоту в образах смирения, слабости, кротости. Прагматизму они противопоставили эстетизм, духу предприимчивости — дух религиозности.
Декларируя намерение радикально обновить художественное творчество, прерафаэлиты считали, что опираться должно на опыт живописцев позднего средневековья и раннего Ренессанса. Их кумирами были Джотто, Боттичелли, Фра Филиппо Липпи, Фра Анджелико, Мантенья, а из поэтов — Данте и английские романтики Шелли и Китс. Боттичелли, которого прерафаэлиты особенно высоко ставили, к XIX в. был давным-давно позабыт. Они первые привлекли к нему всеобщее внимание, по сути дела заново его открыли для всего цивилизованного мира, и это одно показывает, какое значение имела деятельность небольшой, но сплоченной группы английских художников. Неприязнь к искусству высокого ренессанса выразилась уже в наименовании «Братства прерафаэлитов»: оно провозглашало ориентацию на тех, кто творил до Рафаэля. Поиски импульсов новой красоты устремлялись к тем прообразам, которые, как считали прерафаэлиты, были проникнуты гораздо более глубоким религиозным чувством, нежели творения Ренессанса, где земное восторжествовало над небесным. Кроме того, в чисто религиозном плане прерафаэлиты испытывали тяготение к эстетическим концепциям католицизма в отличие от господствовавшего в современной им Англии пуританского подхода к художественному творчеству.
Викторианские вкусы казались прерафаэлитам вульгарными, пошлыми, низменными. «Великая выставка» 1851 г., которой так гордились викторианцы, с точки зрения прерафаэлитов была ужасающей коллекцией уродств, скопищем кичливых гримас современной цивилизации. Болезненное восприятие окружающей действительности и ностальгическая тоска по безвозвратно утраченной красоте ушедших времен, когда вера была первозданно чиста и наивна, побуждали прерафаэлитов протестовать против всего «условного, самодовольного, напыщенного и рутинно заученного»26 и ратовать за естественность, за верность искусства живой природе. Эти их. декларации некоторые современники поняли слишком буквально, и, например, Уильям Моррис спустя сорок лет, в 1891 г., серьезно утверждал, что «бунт против академического искусства» означал утверждение прерафаэлитами принципов «чистого натурализма»27. На самом деле ничего общего с натурализмом в творчестве прерафаэлитов не наблюдалось. Они выступали против эклектизма и апофеозного романтизма с позиций романтизма одухотворенного, причем их романтизм, как писала в начале XX в. русская исследовательница З.А. Венгерова, таил в себе «мистические настроения, культ духовной красоты»28. Они хотели, согласно формуле одного из идеологов «Братства прерафаэлитов» Данте Габриэля Россетти, творить «рукой и душой», т. е. поставить мастерство на службу побуждениям идеальным.
В панораму английского искусства XIX в. прерафаэлиты внесли чуждые викторианской эпохе мотивы кротости и смирения. Они воспевали слабость, а не силу, благоговейную серьезность тревожных ожиданий, а не торжество побед. Викторианская образность дышала самоуверенностью и оптимизмом, живопись и поэзия прерафаэлитов — скорбью, пессимизмом. Связь прерафаэлитов с общим духом времени все же сказалась в типично викторианском их убеждении, что в богатой кладовой художественной культуры прошлого следует искать образцы, достойные подражания. Полотна Россетти, Джона Эверета Милле, Форда Медокса Брауна свидетельствуют, однако, о том, что, вдохновляясь далекими прообразами, они трактовали евангельские, исторические, а подчас и современные жанровые сюжеты вполне оригинально и самобытно.
Тип женской красоты, воспетой Россетти, находится как бы на полпути от Боттичелли к Модильяни: это красота тихая, полная смутных предчувствий, с оттенком чувственности — вызывающим с точки зрения пуританских вкусов того времени. Чопорные критики упрекали Россетти чуть ли не в непристойности. Между тем, достаточно вглядеться хотя бы в «Благовещенье» Россетти (снова 1850 г.!), в синевато-белую холодную гамму картины, в чуть асимметричное лицо потупившейся Марии, в ее скорбные глаза и томно изогнутые губы, чтобы понять, что канонический сюжет интерпретирован с предельной интимностью, но вполне целомудренно, что в кротком затуманенном взоре сквозит женственность, еще не разбуженная, чувственность, еще себя не осознавшая. Господствует ритм сдержанных, как бы скованных движений. Нервное изящество рисунка создает ощущение почти бесплотной воздушности фигур. Бескрылый ангел, высокий юноша в белых одеждах, с белыми лилиями в руке, протянутой к Марии, стоит, едва касаясь ногами пола, он как бы невесом. Ни печальный ангел, ни сама Мария не сознают торжественную значительность ситуации. Мистическое величие момента ощущает лишь сам художник, которому в этой встрече небесного ангела с земной девой всего важнее то, что земное и божественное — не разделены, они увидены в зыбком, но нерасторжимом метафизическом единении.
Рисунку прерафаэлитов свойственна отчетливость линий: то были линии льющиеся, музыкальные, они фиксировали колеблющиеся позы длящихся движений, избегая внешней экспрессии и пафоса. Композиции, как правило, не обладали большой глубиной, они располагались в сравнительно скромных пространственных пределах, выгодных для фиксации многозначительных пауз бытия, вдруг озаренного светом высшей истины. Медленная, даже медлительная пластика, улыбка боли, состояние глубокой задумчивости, когда и невинное и грешное сливаются в тихой, благочестивой экзальтации, когда опоэтизированное чувство приближает человека к богу, — вот что составляет истинное содержание полотен прерафаэлитов.
«Мария-Магдалина» Россетти бледна, ее профиль аскетически строг, вся высокая, хрупкая фигура устремлена к невидимой, находящейся за пределами полотна цели, колористическая гамма, в которой доминируют красноватые тона, охлаждена, притушена, движение порывисто и все-таки смиренно.
Такая зыбкость и такая нерешительность никак не отвечали викторианским представлениям о красоте. Но прерафаэлиты иногда в божественных сюжетах выражали даже болезненность. Мадонна Форда Медокса Брауна «Вот ваш сын, Господи!» (1851—1857), высокая женщина в белом, с измученным некрасивым лицом, со страдальческими глазами и красными пятнами на щеках протягивала навстречу зрителю и богу слабого, пищащего ребенка: не богоматерь, а роженица. Такие вещи больше всего шокировали викторианскую публику и провоцировали разговоры об имморализме молодых живописцев. Впрочем, их взгляды на мораль, их представления о пороке и о добродетели действительно сильно отличались от общепринятых.
В высшей степени интересна для нас «Офелия» Дж. Э. Милле (1852) — кажется, единственная попытка прерафаэлитов соприкоснуться с Шекспиром. Изображен момент, когда Офелия «пела и гибла»: рыжеволосую девушку с безгрешными глазами и чуть приоткрытыми полными губами река спокойно и плавно несет мимо цветущих кустарников. Доминирующее настроение — умиротворенное, едва ли не сладостное ожидание блаженной смерти, легкое, радостное изумление. Ни страха, ни тоски: смерть избавительна, смерть красива. Колорит достаточно пестрый: пышная зелень, белые, красные, синие цветы, бледное золото наряда — все это призвано оттенить именно красоту расставания с жизнью. Существенно, однако, что в картине нет театральности: Милле вдохновляла непосредственно поэзия Шекспира, а отнюдь не сценические ее истолкования.
На полотнах прерафаэлитов 50-х годов мало персонажей, зато лица, ими запечатленные, содержательны и значительны. В этих лицах, просветленных или сумрачных, нет героического одушевления, напротив, они выражают покорность судьбе, готовность подчиниться провидению. Романтизм образов обладает и определенной сгущенностью, такой концентрацией идеи в лаконичной форме, которая близка к символу, предвещает эстетику символизма.
Симптоматична резкая антипатия, которую вызывала у прерафаэлитов парижская живопись середины века с характерной для нее любовью к живой, трепещущей материи бытия. В 1864 г. Россетти побывал в Париже и посетил мастерские Курбе и Эдуарда Мане. Их полотна он назвал «просто мазней», а новую французскую школу — «гнилью и разложением»29. Идеализму Россетти эта школа, равнодушная ко всякой метафизике, была враждебна.
Виднейший критик и теоретик искусства Джон Рёскин, который исходил из убеждения, что красота по самой природе своей непременно нравственна и что всякая подлинная живопись должна быть возвышенной (потому он отвергал, например, всех живописцев фламандской школы и нередко упрекал Диккенса в «низменности сюжетов»), пылко поддержал и превознес прерафаэлитов в статьях 1851 и 1854 гг. Впоследствии, однако, он разочаровался в художниках прерафаэлитского братства, но вовсе не потому, что якобы уверился в их «декадентстве» (исследователи творчества Рёскина высказывали такие суждения), а скорее потому, что прерафаэлиты стали сдавать свои позиции. Большое полотно Холмэна Ханта «Лондонский мост в вечер бракосочетания принца Уэлльского» (1866) производит впечатление богато костюмированной массовой сцены в постановке Чарльза Кина: развеваются в небе красно-золотые хоругви, пылают монументальные светильники, многолюдная ликующая толпа мизансценирована, как и в театре Принцессы, на разных уровнях — во всем торжествует знакомый апофеозный стиль. Еще дальше пошел по этому пути Ф.М. Браун, поначалу один из верных сподвижников Россетти и Милле. Поздние, 70—80-х годов фрески Брауна так называемого «манчестерского цикла», громоздко и крикливо скомпонованы, вполне банальны в их взвинченной патетике и нарочитой экспрессии.
И тем не менее прерафаэлиты успели оказать сильное воздействие на всю художественную жизнь Англии. Движение, начатое прерафаэлитами, повлияло и на теоретические концепции Джона Рёскина, и на разнообразные опыты Уильяма Морриса в сфере зодчества, прикладного и декоративного искусства. Особенно сильно оно отозвалось в поэзии Алджернона Чарлза Суинберна, полной трагичных предчувствий, дисгармонии необузданных страстей, мрачной и причудливой фантазии.
В искусстве эпохи обозначился второй план. Характерное для викторианства четкое размежевание порока и добродетели в этом художественном подтексте эпохи нарушалось, против оптимистической однозначности выступила, размывая четкие границы этических категорий, многозначность эстетизма.
В искусстве сцены влияние прерафаэлитов было гораздо менее заметно и только косвенным образом давало себя знать. Между тем после Чарльза Кина интерес к Шекспиру в Англии постепенно падал. Француз Шарль Фехтер, который с труппой своих соотечественников, игравших на английском языке, работал в театре Лицеум с 1860 по 1867 г., ввел усовершенствования в устройство сцены. В частности, он использовал только что появившееся газовое освещение: «...газовые рожки, — пишет С. Розенфельд, — были помещены внизу, ниже уровня сцены, и целые волны красного или зеленого света могли быть с их помощью направлены на декорацию»30. ,В некоторых случаях — в «Гамлете», например, он применял прозрачные тюлевые занавесы. Призрак, в частности, виден был сквозь вуаль. Высокая белая фигура Призрака с короной на голове и королевским скипетром в руке, судя по дошедшей до нас зарисовке, подобно статуе, Стояла в сценическом пространстве на фоне усыпанного крупными звездами неба.
В отличие от Чарльза Кина, Шарль Фехтер многолюдных массовок избегал и к «научной» достоверности зрелища особой склонности не испытывал. Ученик Фредерика-Леметра, воспитанный на романтическом и мелодраматическом репертуаре (коронной его ролью был Рюи Блаз), Фехтер, не смущаясь своим французским акцентом, с успехом сыграл Гамлета в непривычной для английских зрителей «разговорной» манере и только изредка прерывал спокойно-печальное, раздумчивое течение роли короткими вспышками темперамента. «Он не особенно заботился о старых эффектах, чувствовал себя свободно и раскованно и говорил в тоне простой беседы; все это было сплошным огорчением для ортодоксов, но большинство зрителей встретило эти новшества с ликованием, как откровение», — писал современный критик31.
Интервал между Фехтером, который сыграл Гамлета в 1861 г., и Генри Ирвингом, в 1878 г. возглавившим Лицеум, был достаточно долгим. Количество театров в Лондоне год от года увеличивалось: в 1851 г. их насчитывалось 18, в 1870—30, в 1899—61. Но почти два десятилетия Шекспира в Англии ставили от случая к случаю, играли как бог на душу положит, и все эти случаи принципиального значения не имели. А на континенте — в Австрии, Германии, Италии, даже во Франции — тяготение к Шекспиру возрастало. Когда Ирвинг пришел в Лицеум в качестве первого актера труппы и, одновременно, полновластного директора театра, он уже не мог игнорировать некоторые «континентальные» достижения, хотя, конечно, как истый викторианец, скептически относился к попыткам чужеземцев постичь и воплотить творения великого барда.
В Вене, в Бургтеатре, Шекспира часто ставил Генрих Лаубе. Некоторые историки театра склонны именно Лаубе, а не Ч. Кина считать «первым режиссером», ибо он — в отличие от Ч. Кина — впервые превратил режиссуру в самостоятельную профессию. Если Чарльз Кин почти во всех своих спектаклях играл главные роли, то Лаубе сам не играл, только режиссировал. Он пришел в Бургтеатр тогда же, когда Ч. Кин в театр Принцессы — в 1850 г., имея уже репутацию интересного, многообещающего драматурга. Но пьесы больше не писал, считая, что создание спектакля и управление труппой требуют полной самоотдачи, что обязанности режиссера нельзя совмещать ни с какими другими занятиями.
Однако наиболее существенное в деятельности Лаубе — не постановка как таковая, не режиссура в нынешнем понимании этого слова, а новая система руководства театральным делом, принципы которой именно он установил. Эти принципы и эти методы, конечно, в усовершенствованном и утонченном виде, применяются поныне.
До Лаубе в Бургтеатре после читки пьесы проводились три — четыре репетиции, и считалось, что спектакль готов. При Лаубе количество репетиций значительно увеличилось. До Лаубе каждый актер учил только свою роль и запоминал только те реплики других действующих лиц, после которых ему надлежало вступить в игру. Лаубе потребовал, чтобы все исполнители, не исключая и тех, кому назначены небольшие эпизодические роли, хорошо знали всю пьесу. Кроме того, он просил актеров не заучивать текст наизусть, пока не начнутся репетиции в костюмах и декорациях, ибо «реальные условия игры подчас приносят с собой неожиданности, которые нельзя предвидеть заранее»32. Принципы «совместной игры» Лаубе культивировал рьяно. «Мы в Вене, — говорил он, — рассматриваем театр как искусство благородное, и для нас ансамбль — цель такого искусства». Пышных декораций Лаубе не любил. Он утверждал, что «театр, который в первую очередь служит глазу, приносит ущерб уху, а для хорошего театра ухо — важнейший орган»33. Другими словами, Лаубе ориентировался не столько на зрителей, сколько на слушателей. «Ясность дикции» была важнейшей его заботой.
«Разговорная режиссура» Лаубе побуждала вести действие как можно ближе к рампе. Глубокая сцена вообще представлялась ему нежелательной, и Лаубе всегда, если это не противоречило пьесе, предпочитал «замкнутую» комнатную декорацию без кулис: три стены, над которыми натягивался потолок. С точки зрения акустической (для Лаубе во всех случаях главной) комнатная декорация была самой удобной. Немалые выгоды давала она и для тех пьес, которые господствовали в обширном репертуаре Бургтеатра. Советские театроведы, говоря о Лаубе, чаще всего упоминают шекспировские спектакли — «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Генрих IV» и др.34 Этот перечень легко было бы и продолжить: Лаубе ставил многие шекспировские пьесы. Но еще больше увлекал его Шиллер, а гораздо сильнее, чем Шиллер и Шекспир вместе взятые, — пьесы Грильпарцера, мелодрамы и комедии Скриба, Сарду, Ожье, Дюма-сына, все то, что открывало простор «комнатному разговору». Именно эти авторы, а вовсе не Шекспир, преобладали в репертуаре Бургтеатра, где давали более 30 премьер в сезон.
Венский Бургтеатр при Лаубе настраивался по камертону буржуазной разговорной драмы. Шекспировская образность в его спектаклях, просматриваясь с позиций «простоты» и «здравого смысла», многое теряла. Актеры, с которыми он усердно репетировал, меньше всего предрасположены были к трагедии. Конечно, у Лаубе находились исполнители на все шекспировские роли — Йозеф Левинский, например, с успехом играл Ричарда III, Адольф Зонненталь — Гамлета, Шарлотта Вальтер — леди Макбет и Клеопатру и т. д. Но все они гораздо увереннее чувствовали себя в современном, а не в шекспировском репертуаре.
Австрийские историки театра хвалят Генриха Лаубе за присущее ему «чувство меры», за то, что в его спектаклях можно было видеть «реалистичность без циничности, естественность без культа безобразия, красоту без прикрас, демоничность без извращений фантазии»35.
Театр Шекспира Лаубе воспринимал как театр характеров. «Характер» же рассматривался как некая замкнутая в себе система строго определенных признаков, как набор свойственных данной натуре отличительных черт. С этой точки зрения шекспировский Ричард III почти не отличался от шиллеровского Франца Моора, и в спектаклях Лаубе Ричард III и Франц Моор в исполнении И. Левинского были друг на друга похожи, словно близнецы.
Истолкование шекспировской драматургии как большой портретной галереи, где богато представлены разнообразные «характеры», подсказывали Лаубе все четыре тома фундаментального труда Георга Готфрида Гервинуса о Шекспире, изданные в Германии в 1849—1850 гг. Гервинус с примерной тщательностью проанализировал подряд все пьесы Шекспира, преклоняясь перед его гением, но все же осуждая необузданного поэта за «чрезмерность» страстей и советуя актерам воздерживаться от шекспировских крайностей. В роли Гамлета, например, по Гервинусу, не следует «выставлять слишком резко напоказ переходы от веселости к унынию», ибо утонченные ценители искусства «не могут выносить беспорядочной пляски негармонирующих друг с другом настроений». Актер не должен забывать, что Гамлет — «меланхолик», что темперамент у него «спокойный, тихий, флегматический», хотя, конечно, «раздражительный».
С другой же стороны, Гервинус приписывал Гамлету эгоизм, жестокость и коварство. Гамлет, писал он, «вступает на кривые пути коварного обмана и хитрого притворства, не будучи в состоянии идти прямым путем дела», Гамлет «с холодной обдуманностью приносит в жертву невинных людей» (прежде всего Розенкранца и Гильденстерна, «этих двух друзей его юности») и «напоследок равняется в коварстве и предательстве со своим дядей». Груда трупов в финале пьесы «не есть следствие эстетической ошибки со стороны поэта, а следствие нравственной ошибки его Гамлета»36.
Читая Гервинуса, искренне влюбленного в Шекспира и во многих случаях высказывающего весьма проницательные суждения о его пьесах, все же то и дело видишь, как искривляется Шекспир в зеркалах здравого смысла. Присущее искусству середины XIX в. стремление к системности, к обстоятельности в подробностях, к опоре на веские аргументы знания снова и снова сталкивалось с «несообразностями» Шекспира. Их пытались обойти, оспаривали или отбрасывали, но полностью справиться с ними не удавалось. Шекспир мешал ставить Шекспира. Что-то противилось лучшим побуждениям и добрым намерениям высоко культурных сценических деятелей, стремившихся Шекспира упорядочить, уточнить, правильно организовать. Один из недоброжелателей Генриха Лаубе, запоздалый эпигон Гофмана Франц Гольбейн, отозвался на постановку «Юлия Цезаря» в Бургтеатре раздраженной статьей «Издержки правды».
Название било не в бровь, а в глаз: забота Лаубе о естественности и простоте «разговорной режиссуры» шла в ущерб Шекспиру. Умеренный климат и разумная ясность, которых добивался режиссер, плохо уживались с шекспировским темпераментом, с его необузданной фантазией и безмерной гиперболичностью. Тем не менее, никто не хотел отступать: ни режиссеры, жаждавшие Шекспира освоить и как-то регламентировать хаос, ввести страсти в русло разумной сдержанности, ни Шекспир, который оставался Шекспиром. Рано или поздно эта конфронтация должна была привести к взрыву.
Но пока никто еще не решался Шекспира открыто атаковать. Перед его гениальностью почтительно снимали шляпы. Тем более, что шекспировскую гениальность по-прежнему подтверждали триумфальные выступления одиноких гастролеров, великих трагиков, чье искусство пребывало в прежнем, совершенно не затронутом режиссурой виде и презрительно игнорировало ее усилия.
Когда Белинский писал о Мочалове в роли Гамлета, он, между прочим, обронил такое замечание: «Коль скоро в том или другом явлении пьесы Мочалова нет, то публика очень законно может заняться на эти минуты частными разговорами или найти себе другой способ развлечения»37. Как только трагик уходил за кулисы, в движении спектакля возникала ничем не заполненная пауза. Это было в порядке вещей, такое же право отвлечься и развлечься всегда предоставлялось зрителям шекспировских представлений, которые давали прямые наследники Гаррика и Эдмунда Кина — Айра Олдридж, Томазо Сальвини, Эрнесто Росси, Жан Муне-Сюлли и многие другие артисты такого же склада, только масштабом помельче. Трагики странствовали по городам и весям, играя не шекспировские трагедии, но шекспировские роли. «Коронной ролью» для Олдриджа и Сальвини была роль Отелло, для Росси и Муне-Сюлли — роль Гамлета, но каждый из них, кроме того, играл и других шекспировских героев, Ромео или Макбета, Лира или Кориолана. Роль всякий раз выстраивалась как серия огненных монологов и наиболее выразительных сцен. У каждого трагика на дистанции роли были свои излюбленные, «козырные» реплики, свои неповторимые, поражавшие и восхищавшие публику интонации, свои тщательно отработанные жесты и позы.
Конечно, искусство трагиков тоже претерпевало — в зависимости от веяний времени — заметные перемены, стилистические различия между игрой Олдриджа и, например, игрой Муне-Сюлли очень велики. Но все они шли в каком-то смысле против течения, все выдвигали как антитезу окружавшей трагика упорядоченной и обесцвеченной буржуазной действительности великую неразумность страсти, духовную независимость могучей индивидуальности. В центре сценического пространства возникала фигура отдельной суверенной личности, не желающей мириться с заурядностью среды.
Трагикам в принципе не нужен был ансамбль по той простой причине, что требование ансамблевости ставит героя на одну доску с остальными персонажами. Напротив, им эстетически выгоден был посредственный и случайный фон, они охотно и зачастую вовсе без репетиций играли с первой попавшейся провинциальной труппой, с какими угодно партнерами. Точно так же трагиков нимало не заботила историческая достоверность, даже если речь шла о костюмах их героев. Станиславский был в восторге от Отелло — Сальвини, но заметил все же, что его озадачили «торчащие вперед усы» и парик, «слишком париковатый», что «большие восточные кинжалы» на животе «толстили» актера, да и «мавританский плащ с капюшоном» выглядел достаточно нелепо, «мало типично для внешности солдата Отелло»38. Внешний облик Гамлета — Росси был еще более странен. Побывавший на его спектакле Достоевский меланхолически заметил в «Дневнике писателя»: «Видел я Росси в Гамлете и вывел заключение, что вместо Гамлета я видел господина Росси»39.
Огненная лава трагических монологов, ореол величия, сопровождавший каждого из прославленных трагиков, театральные легенды, им сопутствовавшие, — все это высоко поднимало артиста над повседневностью. «Истина страстей», одушевлявшая игру, в конечном счете оказывалась важнее достоверного оформления и ансамбля.
Кончится век, и в 1905 г. Станиславский произнесет знаменитую фразу: «Время темпераментов на сцене прошло»40. В 60—70-е годы прошлого столетия такие категорические выводы еще не делались. Но в высшей степени знаменательно, что в 1874 г. в прямое соревнование с великими гастролерами-одиночками вступила мощная гастролирующая труппа мейнингенцев.
Историки театра, анализируя искусство мейнингенцев, как правило, упускают из виду главную особенность уникального в своем роде предприятия герцога Георга II: он организовал передвижную труппу, вся деятельность которой предусматривала исключительно гастрольную работу. Небольшое, любовно оборудованное здание в Мейнингене предназначалось только для репетиций: тут спектакль готовился, оснащался, чтобы затем его можно было исполнять на любой другой более или менее удобной сценической площадке. Мейнингенская труппа изначально задумывалась как коллективный конкурент трагику, гастролеру-одиночке.
За шестнадцать лет мейнингенцы побывали в 38 городах Европы и Америки и дали без малого 3000 представлений. Их спектакли существенно повлияли на всю дальнейшую историю сценического искусства. Шекспир («Юлий Цезарь», «Зимняя сказка», «Макбет», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь» и др.) занимал в репертуаре мейнингенцев самое видное место.
Руководитель мейнингенской труппы Георг II в 1857 г. побывал в Лондоне и специально знакомился с постановками Чарльза Кина, в частности — с «Ричардом II». Напротив, в более близкую Вену «театральный герцог» не ездил и спектакли Лаубе в Бургтеатре не видел, но, вероятно, имел представление о приемах его «разговорной режиссуры». Некоторые театроведы считают, что Георг II и его ближайшие помощники (режиссер Людвиг Кронек и артистка Эллен Франц) лишь суммировали достижения Ч. Кина и Г. Лаубе и что все новшества мейнингенцев есть результат слияния режиссуры «зрелищной» с режиссурой «разговорной». На самом деле мейнингенцы, учитывая опыт Ч. Кина и Г. Лаубе, сделали большой шаг вперед, причем многое в работе своих предшественников критически оценили и отвергли.
Георг II не хотел подражать Лаубе в поисках «комнатного тона» и «простоты», на деле означавшей приспособление классики к духу и стилю современной буржуазной драмы. Вместе с тем, Георг II вовсе не склонен был вслед за Ч. Кином рассматривать исторический антураж всего лишь как средство и повод для создания пышных, роскошных, подчас феерических зрелищ. Не только верность истории, но и самую историю мейнингенцы понимали иначе.
Характеризуя весь XIX в. в целом, Томас Манн назвал его «столетием истории», когда «впервые был выдвинут и разработан исторический принцип подхода к действительности»41. В сфере театра «исторический принцип» наиболее последовательно реализовали именно мейнингенцы.
Историзм был их главной целью, даже, можно сказать, их манией. Творения, созданные свободной фантазией Шекспира, они хотели разыграть в точном соответствии с познаниями, которыми располагала (применительно к эпохе, когда происходит действие данной пьесы) историческая наука XIX в. Главные усилия труппы Георга II были направлены не к постижению духа автора, а к точному воспроизведению колорита и особенностей той или иной эпохи. Упорство, с каким преследовалась эта цель — историческая достоверность, — многократно превосходило аналогичные старания Ч. Кина.
Свои постановки мейнингенцы готовили очень долго, сроки работы были практически ничем не ограничены. К работе над шекспировским «Юлием Цезарем», например, они приступили в 1867 г., а завершили спектакль к 1874 г. Любимыми художниками герцога были братья Антон и Макс Брюкнеры. Декорации делались по чертежам с натуры, которые подготовил главный хранитель архитектурных памятников древнего Рима и руководитель археологических раскопок Пьетро Висконти. Наряды из настоящих дорогих тканей — парчи, сукна, бархата — шили под наблюдением профессора Карла Вайса, автора солидного труда «История костюма». Как рассказывает современник, «перед началом репетиций каждый актер находил в своей гардеробной рисунок герцога — эскиз костюма, часто с пояснениями, в каких случаях и какой к этому костюму полагается головной убор, как застегиваются пряжки, как затягивается пояс»42. Герцог требовал также, чтобы «настоящий» костюм «по-настоящему» и носили, — т. е. чтобы пластика следовала за костюмом. Главная задача актера состояла в том, чтобы оживить исторический наряд.
Театр принимал на себя миссию иллюстрировать историю, служить ей, и нес эту службу с величайшей добросовестностью. Оружие изготовлялось по музейным образцам эпохи Юлия Цезаря. Многие уникальные предметы мебели и реквизита брали из дворца герцога. Все Саксен-Мейнингенское герцогство, население которого не превышало 10 000 жителей, превратилось в своего рода грандиозную театральную кладовую и мастерскую: по воле герцога интересам театра подчинялась вся жизнь маленького государства.
Исторические картины, возникавшие на подмостках мейнингенцев, должны были казаться не только достоверными в подробностях, но и полными жизни. Важнейшие новшества, служившие этой цели, преобразили всю систему оформления сцены. Впрочем, многое и тут предопределялось гастрольным характером работы труппы. Декорации писались с расчетом на любое здание и на любое зеркало сцены. Поэтому особое значение придавалось писаным задникам, их по возможности быстрой смене и разнообразному освещению, которое позволяло на глазах у зрителей создавать впечатление восхода или захода солнца, рассвета или наступления тьмы. Такого рода эффекты мейнингенские художники и осветители готовили очень старательно и добивались больших успехов. Иногда вместо живописного задника применялась так называемая «панорамная декорация»: ее холстина натягивалась на вертикальные валы, установленные в глубине сцены, и, когда валы приходили в движение, одна картина мгновенно сменялась другой. Паддугами мейнингенцы почти не пользовались, они отдавали предпочтение удобным для перевозки пратикаблям (декоративным вставкам на жестком каркасе), с помощью которых удавалось скрыть плоский планшет, вообще заставить зрителей забыть, что действие происходит на ровной сценической площадке. Изгороди, поваленные стволы деревьев, полуразрушенные стены, уступы, утесы, горные тропинки, дугообразные арки ворот — все это придавало сценическому пространству вид целостного и живого ландшафта, где пратикабли вкупе с панорамной декорацией сливались в одну общую картину, тщательно выверенную по законам перспективы, любовно освещенную в соответствии с временем суток (рассвет, сумерки, ночь и т. п.) и погоды (гроза, ветер, солнечный день), продуманно озвученную (шум дождя, шелест деревьев, гром и пр.).
Американский режиссер Ли Симонсон, характеризуя основные принципы мейнингенцев, отметил, что «движущиеся человеческие фигуры» в их спектаклях всегда должны были восприниматься «вместе с живописной декорацией, согласованно с нею, составлять с нею определенное единство... Динамическая связь между движущимся актером и неподвижной декорацией была принята как аксиома».43
Некоторые требования Георг II диктовал и художникам, и актерам с догматической твердостью. Он был непримиримым противником симметрии (которую так любил Ч. Кин) и статики (милой сердцу Г. Лаубе). Выразительными признавались только динамичные, а динамичными — только асимметричные построения. Актер никогда не должен был находиться в центре сцены, всегда — чуть справа или чуть слева от него. Не допускались фронтальные, выстроенные параллельно линии рампы композиции.
Доминировала диагональ. По диагонали выстраивались основные абрисы декораций. Диагональность компоновок, во-первых, почиталась более жизненной, а во-вторых, создавала впечатление большей глубины сценического пространства. Римский форум декорации к «Юлию Цезарю», в частности, был поставлен косо — в три четверти. Линии движений героев и толп прочерчивались тоже только по диагоналям. Для актеров было строгое предписание: «одна нога выше другой». Это означало, что при любой возможности надо поставить ногу на ступеньку лестницы, на камень и т. п. Т. е. поза остановившегося актера предвещала движение. Статичность воспринималась как признак безжизненности, динамика — как проявление жизни. Особое внимание уделялось верности перспективы. В идеале сценическая композиция должна была внушать зрителям иллюзию, что за пределами сцены действие продолжается, группировка не оканчивается, и если на сцене бурлит толпа, то за сценой теснятся — и напирают — новые толпы.

Генри Ирвинг в роли Дюбока («Лионская почта» Чарлза Рида), 1898
Среди статистов обозначались, как писал один из сотрудников Георга II, «сангвиники и флегматики, дикие горлопаны и пассивные свидетели, суровые бойцы и яростные оппоненты, наглые бабы и добрые домохозяйки, соучастники событий и любопытные ротозеи». Герцог формулировал свои Цели так: «Создать настроение, в беспорядке частностей организовать цельность действия»44. Массовки мейнингенцев производили сильное впечатление. Немецкий критик Карл Френцель писал о спектакле «Юлий Цезарь»: «Организация массовых сцен тут доведена почти до совершенства. Когда Каска наносит удар Цезарю, собравшаяся в курии толпа, содрогнувшись, отзывается на это событие одним-единственным душераздирающим воплем. Затем воцаряется мертвая тишина: убийцы, сенаторы, народ — все на какое-то мгновение останавливаются, будто оцепенев, перед трупом властелина. А после вздымается буря, движение которой надо видеть и грохот которой надо слышать, чтобы почувствовать, каким глубоким и мощным может быть воздействие драматического искусства. В сцене на форуме, чередуясь, сменяют друг друга прекрасные и потрясающие моменты: вот толпа поднимает Антония на плечи, и он, возвышаясь посреди общей дикой толкотни, зачитывает вслух завещание Цезаря, вот разъяренные римляне хватают носилки с его распростертым телом, вот другие с горящими факелами в руках рвутся наверх, вот, наконец, поэт Цинна в бурлящей суматохе повержен навзничь, убит. Кажется, воочию видишь, как начинается революция»45.
Стремясь именно к такого рода впечатлениям, мейнингенцы предпочитали располагать массовки в глубине сцены, подальше от рампы. Антуан, просмотревший у мейнингенцев 12 спектаклей, писал, что «не видел ни одного исполнителя, который подошел бы к суфлерской будке ближе, чем на два метра», что никто из актеров «не отваживается выйти на просцениум», и «почти все центральные сцены разыгрываются на третьем плане»46.
Разработанные Георгом II «историко-научные» методы создания спектакля «на тему эпохи» и приемы его «массовой режиссуры» давали самый большой эффект, когда ставились пьесы вроде «Юлия Цезаря» (спектакль прошел 330 раз) или шиллеровского «Вильгельма Телля» (233 представления), но оказывались менее результативны применительно к таким произведениям, как, например, «Макбет».
Лучшие артисты — Людвиг Барнай, Макс Грубе, Иозеф Кайнц — работали у герцога либо недолго, либо с большими перерывами и не в мейнингенской труппе достигли высших успехов. Главная забота супруги герцога, Эллен Франц, репетировавшей с исполнителями основных ролей, сводилась к сдерживанию актеров: им запрещалось «солировать». Иной раз назначение актера на одну из главных ролей было предопределено соображениями внешнего, портретного сходства — в частности, Пауль Рихард, игравший Юлия Цезаря, был очень похож на подлинного Цезаря, но этим все достоинства актера исчерпывались.
Согласно мейнингенской концепции исторического спектакля, действия героя лишь в незначительной мере зависели от его воли. В гораздо большей степени все его поступки и слова были детерминированы волей истории, т. е. — в переводе на театральный язык — толпой, массовкой, ее неудержимым напором. Трагедия растворялась в движении толп, упразднялась и «снималась» пафосом и хаосом историзма.
В 1881 г. мейнингенцы гастролировали в Лондоне. Тут их представления увидел Генри Ирвинг, уже третий год возглавлявший лондонский театр Лицеум и более пяти лет выступавший в больших шекспировских ролях. Впоследствии Гордон Крэг писал, что Ирвинг «вобрал в себя все лучшее из старых английских традиций; он отбросил из них все, что было для него бесполезно, и оставшееся поднял до новых высот и достижений»47.
Действительно, деятельность Ирвинга в Лицеуме заметно облагородила викторианскую сценическую традицию и внесла в нее характерный оттенок эстетизма, но произошло это не сразу, ибо и сам Ирвинг не сразу «нашел себя». Подобно многим современным ему актерам, он начал с мелодрам и первый большой успех стяжал в «Колоколах» Л. Люиса (переделка «Польского еврея» Эркмана-Шатриана — как известно, позднее эту пьесу ставил и Станиславский) в роли трактирщика Матиаса, с которой не расставался до конца жизни. Да и другие роли примерно такого же плана не однажды увлекали Ирвинга: он играл в «Двух розах» Б. Альбери, в «Ришелье» Э. Бульвер-Литтона, в «Корсиканских братьях» Д. Бусико, «Лионской почте» Ч. Рида, в пьесах Сарду и т. п.
Еще в 1874 г., за несколько лет до того, как Ирвинг принял на себя руководство Лицеумом, он впервые выступил в роли Гамлета. Тут-то и стали видны некоторые оригинальные особенности его исполнительской манеры. До Ирвинга, да и после него считалось, что в шекспировских ролях главное — огонь, страсть. Ирвинг, не обладая сильным темпераментом, вел роль Гамлета совсем в ином регистре. Эллен Терри сразу заметила главное: «новый Гамлет держался так просто, так спокойно, совершенно не прибегая к искусственным театральным эффектам, которые обычно вызывали неистовый восторг зрителей»48. Весь облик Гамлета — Ирвинга — скорее поэта, нежели героя, скорее разочарованного идеалиста, нежели мстителя, скорее современного молодого человека, нежели протагониста классической трагедии, был необычен. Гримируясь, Ирвинг «делал себя мертвенно бледным, и вблизи его лицо выглядело очень красивым, но со сцены Гамлет казался крайне изможденным». И хотя Терри упомянула о том, что «прежде всего чувствовалось благородство его происхождения», — оттенок, очень важный для Ирвинга! — она же писала, что этот Гамлет был «скорее дух, чем человек».
Озадаченные критики сперва замечали только недостатки артиста: его далеко не идеальную дикцию, странную медлительность речи, неуверенность поступи (Ирвинг слегка волочил ногу). Однако зрителей такой Гамлет, «экстравагантный и причудливый», заинтриговал. В первый же сезон Ирвинг 200 раз выступил в этой роли, неутомимо шлифуя каждое движение, каждую интонацию. Его работоспособность была исключительной, воля к совершенству — непреклонной.
Спустя пять лет Джозеф Найт, рецензируя новую постановку «Гамлета», осуществленную уже самим Ирвингом, отметил, что Ирвинг «был принят с таким восторгом и одобрением, каким встречали самых блестящих трагиков прошлого»49, и что его толкование роли Гамлета «вряд ли можно оспаривать». Но готовность примириться с трактовкой Ирвинга и с его успехом у публики отнюдь не означала, что новшества актера поняты и по достоинству оценены.
Томмазо Сальвини, видевший Ирвинга в роли Гамлета, благосклонно признал, что «подвижное лицо его отражало, точно в зеркале, его мысли», а «тонкая выразительная фразировка, полная оттенков и меткости, обнаруживала в нем мастера дела», что «в монологе «Быть или не быть» Ирвинг был бесподобен; в сцене с Офелией он заслуживал высшей похвалы, в сцене с актерами он трогал зрителей». Но все эти комплименты лишь предваряли безрадостный вывод: Сальвини утверждал, что там, где нужна подлинная сила страсти, Ирвинг оказывался не на высоте, чувствовались «манерность, недостаток мощи, натянутость»50.
Однако постепенно ирвинговская трактовка завоевала всеобщее признание. Критик Клемент Скотт, отзываясь об Ирвинге в роли Гамлета, подчеркивал, что главное достоинство его игры — глубокое проникновение во внутренний мир героя. «Мы мало интересуемся тем, что он делает, как он ходит, когда обнажает меч. Зато мы в состоянии следить за работой его мысли. Его монологи не адресованы через линию рампы к нам, зрителям. Гамлет, как в зеркало, вглядывается в глубины собственного смятения — «очами души моей, Горацио». Его глаза устремлены как бы в ничто, но неизменно красноречивы. Он смотрит в никуда и общается со своей уязвленной совестью...»51.
К концу 70-х годов имя актера Ирвинга было уже окружено ореолом славы. Его сравнивали и с Гарриком, и с Эдмундом Кином. Однако критикам долго не удавалось с достаточной ясностью определить особенности его актерской индивидуальности. Эта трудность не преодолена и поныне. Посвященная Ирвингу литература огромна, но разноречива, и в каком-то смысле он до сих пор остается едва ли не самой загадочной фигурой в истории викторианской сцены — скорее всего потому, что между актерской манерой Ирвинга и внешностью спектаклей Лицеума, которые он ставил, всегда существовал некий разрыв. Следует согласиться с английским театроведом Джоном Расселом Брауном, который полагает, что Ирвинг «начал искать оригинальные интерпретации шекспировских характеров на основе психологического изучения самых мельчайших элементов текста»52. Весь вопрос в том, каков был этот психологизм, каким целям служил, в какие стилистические формы изливался. Одни критики называли Ирвинга ярчайшим представителем романтизма, другие считали, что он — актер-реалист, одни говорили о «вспышках молний», которыми озарены его «фантастические творенья», другие обращали внимание на скрупулезную и обдуманную отделку внешнего рисунка роли. Третьи, однако, подчеркивали, что Ирвинг всегда «воздействовал на зрительный зал своей индивидуальностью, особым обаянием своей личности»53. Это вот последнее замечание, по-видимому, ближе к истине. Оно находит подтверждение и в отзывах Бернарда Шоу, который, как известно, к деятельности Ирвинга относился отрицательно.
С точки зрения Шоу, шекспировские пристрастия Ирвинга преграждали современным писателям — прежде всего Ибсену, Гауптману и самому Шоу — дорогу на сцену Лицеума, а потому «Ирвинг фактически был главным препятствием для дальнейшего развития нашего театра». Неизменно выступая в качестве колкого и непримиримого оппонента Ирвинга — руководителя театра, Шоу все же отдавал должное его актерскому таланту. Ирвинг, писал он, «порвал с традицией сверхчеловеческой игры», ему «суждено было вернуть на сцену трогательное благородство чувств, истинную нежность и достоинство, заявляющее о себе только тогда, когда оно оскорблено». Более того, Ирвинг, по его словам, «должен был найти и нашел верные методы выражения как благородных, так и неблагородных чувств, понимаемых теперь совершенно по-новому... Ирвинг был прост, сдержан и медлителен».
При всей сложности его собственных взаимоотношений с Шекспиром, Шоу настойчиво упрекал Ирвинга в том, что актер использует «шекспировские пьесы в качестве фона для героев, созданных его воображением», что он «создал только одну роль, и этой ролью была роль Генри Ирвинга». В искусстве Лицеума, по мнению Шоу, заметна была «напряженность, которая возникает как следствие напряженной борьбы между сэром Генри Ирвингом и Шекспиром»54.
Эту «напряженность» Шоу уловил точно. Чтобы постичь ее причины, надо понять, что же представляла собой «роль Генри Ирвинга» и как она соотносилась с постановочной практикой Лицеума. Если Шоу прав (а его отзывы совпадают с отзывами ряда других современников), и в искусстве Ирвинга доминировал некий сквозной мотив, то, значит, есть основания утверждать, что глубокий и проницательный психологизм актера сочетался с тем, что ныне называют обычно «самовыражением». Кого бы артист ни играл, он всегда был узнаваем, в каком бы историческом костюме ни выходил на сцену, его глазами смотрел в зрительный зал одинокий, опечаленный, уязвленный или разгневанный Ирвинг. Таким он был и в своих любимых мелодрамах, и в ролях боготворимого Шекспира. В сокровенной глубине ирвинговского персонажа всегда угадывался благородный англичанин 80-х годов, недовольный ни собой, ни Англией, ни мирозданием и в то же самое время тайно и страстно влюбленный если не во весь мир, то уж, конечно, в Англию и в собственную персону. «Роль Генри Ирвинга» была ролью благородного джентльмена, противопоставившего самодовольству и культу силы душу, жаждущую красоты, поэзии, взыскующую идеала, апофеозному романтизму в стиле Чарльза Кина — психологизм, подчас довольно горестный, подчас ироничный.
В эпоху Виктории быть джентльменом значило «следовать в жизни определенному кодексу чести, ответственности, высокой порядочности». Считалось, что «если человек рождается джентльменом, это само по себе должно было каким-то образом предопределить его душевные качества»55.
В сердцевине спектакля, внешне очень нарядного (а в 80-е годы и весьма импозантного), по-викториански зрелищного, оказывалась личность, чрезмерно, с викторианской точки зрения, склонная к рефлексии, слишком подвластная эмоциям. Мужественный герой Ирвинга выглядел в трагедии легко ранимым, в комедии — излишне изысканным. В обеих шекспировских ипостасях ему недоставало твердости, прямоты, мощи. Его артистизм был отмечен печатью неудовлетворенности, духовного разлада. Все это в собственном ирвинговском восприятии сопровождалось культом красоты.
Такая позиция явственно смыкалась с эстетизмом Джона Рескина и Уильяма Морриса и подхватывала — на языке сцены 70—80-х годов — идеи, прозвучавшие еще в 50-е годы в живописи и поэзии прерафаэлитов. «Конечная цель сценического искусства, — утверждал Ирвинг, — красота. Природа сама по себе есть элемент красоты. Изображать явления низменные и грубые — это унижение искусства»56. Последняя фраза, в сущности, повторяет любимую мысль Рескина и позволяет понять, почему Ирвинг избегал «новой драмы», ее социальной остроты, ее интереса к темным и низким сторонам жизни.
Но эстетизм Ирвинга, сравнительно с эстетизмом Рескина и Патера, отличался умеренностью, «джентльмен» в нем сидел глубоко, и отнюдь не случайно он так искренне преклонялся перед талантом викторианского «поэта-лауреата» Альфреда Теннисона, чьи трогательные драмы «Королева Мэри», «Беккет» и «Кубок» (которые, скептически замечает Ч.П. Сноу, «впрочем были настолько плохи, насколько это вообще возможно для человека с бесспорным литературным талантом»57) все три шли в Лицеуме (и роль Беккета принесла Ирвингу большой успех).
Одним из самых сильных средств актерской выразительности Ирвинга был изощренный мимический дар. Добрых полвека спустя, в 1930 г., Крэг писал, что Ирвинг «никогда не забывал играть прежде, чем говорить... Перед словом или перед фразой Ирвинг всегда делал что-то такое, чтобы у зрителя не оставалось ни малейшего сомнения, каков смысл этого слова или этой фразы, причем часто он вносил в слова роли собственный смысл. Он был актером, а не марионеткой в руках автора. В тех пьесах, где смысл был слишком уж понятен, а слова слишком элементарны и плоски, Ирвинг играл перед этими словами или после них, чтобы нагрузить их особым, ирвинговским содержанием»58 (курсив мой. — Т.Б.).
В своей книге об Ирвинге Крэг тщательно анализировал его игру в мелодрамах или в романтических драмах, предпочитая не касаться шекспировских ролей, которым сам Ирвинг придавал важнейшее значение. Такая избирательность понятна: отдавая дань восхищения актерской виртуозности Ирвинга, Крэг сознательно умалчивал о том, как выглядел на сцене Лицеума Шекспир, — его собственный подход к Шекспиру был принципиально иным.
В режиссерских композициях Ирвинга актеру Ирвингу всегда отводилось вполне определенное — неизменно центральное — место. Спектакль замышлялся как оправа, как рама для игры Ирвинга. Из этого принципа проистекали все особенности постановочной практики Лицеума: «научности», «историзму» уделялось сравнительно мало внимания, а зрелищность в духе Чарльза Кина поначалу создавалась без особого энтузиазма, скорее по инерции. «Обстановка, — писал Ирвинг, — не должна сама по себе привлекать внимание зрителя, а должна быть подчинена впечатлению, исходящему от пьесы. Она окружает актеров атмосферой, в которой они могут дышать, переносит их в соответствующую среду и ставит их под луч света, который должен их освещать. Ее роль негативна»59.
Ансамблевость игры в Лицеуме была понятием весьма относительным. Перед началом репетиций Ирвинг читал исполнителям всю пьесу, чтобы они уразумели смысл, который он в данную вещь вкладывает, уловили интонации, которые должны в соответствующие моменты прозвучать. Затем репетиции велись уже на сцене, по акту в день, определялись игровые точки, рисунок мизансцен, т. е. осуществлялась так называемая «разводка», определявшая каждому точно предуказанное место, откуда следует подать реплику. От партнеров Ирвинг требовал одного: чтобы они ему не мешали. Даже его талантливейшая партнерша Эллен Терри в спектаклях Лицеума долго оставалась на втором плане. В своих мемуарах Терри сообщила: «игра Ирвинга никогда не зависела от партнеров»60.
В. Сомерсет Моэм с присущим ему остроумием заметил однажды: «Во Франции к человеку, загубившему свою жизнь из-за женщин, относятся с сочувствием и восхищением, — игра, мол, стоила свеч; в Англии его сочли бы, и он сам себя счел бы, последним болваном. Вот почему «Антоний и Клеопатра» — наименее популярная из трагедий Шекспира. Английские зрители всегда чувствовали, что отказаться от империи ради женщины — это несерьезно»61. В годы Виктории «Антония и Клеопатру» почти никогда не играли. Не ставил эту трагедию и Ирвинг, хотя для его Гамлета любовь к Офелии и для его Отелло — любовь к Дездемоне были едва ли не главным содержанием жизни героев, и легко предположить, что роль Антония принесла бы ему большую удачу. Но это означало бы, что львиную долю успеха придется отдать актрисе, Клеопатре.
Стягивая весь спектакль к центру, к себе, Ирвинг — в противоположность мейнингенцам — очень любил игру на авансцене. Именно поэтому он избегал писаных задников и слишком широко распахнутого пространства, предпочитая объемные, строенные декорации: занимая значительную часть планшета, эти постройки выдвигали фигуру актера вперед. Первые постановки Ирвинга в Лицеуме — «Гамлет», «Отелло», «Ричард III» — в целом отличались сравнительной скромностью декора, сдержанностью пропорций. Характеризуя оформление его «Гамлета», Дж. Найт писал, что «сценические аксессуары ясны и не навязчивы, костюмы живописны и наглядны, при этом в них отсутствует археологическая дотошность»62.
Однако если Ирвинг-актер долго сохранял известную независимость по отношению к вкусам викторианской публики, то Ирвинг-режиссер довольно скоро двинулся навстречу ее требованиям. Уже в «Венецианском купце» 1879 г. такая податливость стала ощутима: декорация обрела невиданную в Лицеуме внушительность. Художники возводили на сцене мраморные дворцы, сооружали ошеломляюще пышные интерьеры. Эстетизм сказывался лишь в стремлении «насладиться приглушенными красками», в прихотливом освещении. По словам одного из рецензентов, Ирвинг и его художники изобразили Венецию «в тонах полотен Паоло Веронезе», а костюмы «скопировали с картин Тициана». Особенно роскошно выглядел зал суда «с портретами дожей в тяжелых резных золоченых рамах на карминно-красных стенах»63. Все эти красоты, заимствованные у Веронезе и Тициана, создавали нарядный фон для многолюдных массовок, организованных пока еще без мейнингенской динамичности. Массовые сцены «Венецианского купца» были своего рода живыми картинами, дополнявшими декорацию. Когда появлялись Ирвинг — Шейлок или Терри — Порция, толпа застывала в полной неподвижности.
После лондонских гастролей мейнингенцев Ирвинг взял новый курс. То, что недавно приводило в восторг зрителей «Венецианского купца», должно было померкнуть перед мощной зрелищностью новых постановок. В 1882 г. в Лицеуме сыграли «Ромео и Джульетту», первый, как пишет Терри, «грандиозный спектакль, созданный Ирвингом», а кроме того — спектакль, в котором Ирвинг «впервые продемонстрировал свое мастерство в постановке массовых сцен»64. Именно в «Ромео и Джульетте» окончательно определился постановочный почерк Ирвинга-режиссера, «ярчайшего, — по выражению критика А.Б. Уокли, — художника грандиозного стиля, художника барабанного боя и развевающихся знамен»65.
Сугубо викторианская, имперская «грандиозность» ирвинговских композиций 80-х годов имела некоторые характерные особенности. Хотя спектакли мейнингенцев несомненно поразили воображение руководителя Лицеума, и он незамедлительно постарался придать своим массовкам мейнингенскую подвижность и напряженность, тем не менее Ирвинг не проявил характерного для Георга II «научного» подхода ко всему антуражу и исторически достоверной костюмировке статистов. Ирвинга не соблазнила и типичная для мейнингенцев асимметричность и диагональность планировок. Его спектакли по-прежнему развертывались фронтально, их облик утяжелился, масштаб укрупнился, обрел монументальность. Если мейнингенцы добивались ощущения живого, дышущего ландшафта, то Ирвинг чаще всего возводил на подмостках суровые колоннады, аркады, своды, имитируя грубую фактуру гранита или теплый блеск мрамора. Параллельно линии рампы располагались и поставленная с умопомрачительным великолепием картина бала в многоколонном зале Капулетти, и финальная картина огромного склепа в «Ромео и Джульетте», где тяжелые ступени мрачной каменной лестницы вздымались ввысь, уходя в проемы массивных арок.
Доминировали центризм, статика, стабильность, фронтальность мизансцен, ощущение властной прочности. Мир, казалось, устраивался и устанавливался навечно.
Перестановка таких объемных декораций была делом весьма трудоемким. Ирвинг вышел из положения просто: он увеличил штат рабочих сцены, и, например, в спектакле «Корсиканские братья» Д. Бусико сменой декораций занимались 135 человек.
Многие театры в это время уже переходили на электрическое освещение, но Ирвинг оставался верен старым газовым рожкам, и считал, что газовый свет гораздо мягче, естественнее, дает более глубокие тени и более прозрачные полутона. Световые эффекты усугубляли впечатление грандиозности таких шекспировских спектаклей Лицеума, как «Много шума из ничего» (1882), «Двенадцатая ночь» (1884), «Макбет» (1888), «Король Лир» (1892), «Генрих VIII» (1892), «Цимбелин» (1896) и, наконец, «Кориолан» (1901).
Даже видавшие виды старые критики, помнившие работы Ч. Кина, с изумлением писали о красоте ирвинговских зрелищ. Но между внешним обликом постановок Ирвинга и его собственной игрой, психологически насыщенной, все более и более изощренной, существовало определенное противоречие, которое год от года обострялось.
Кроме того, начиная с «Ромео и Джульетты» в спектаклях Ирвинга гораздо заметнее стала грациозная и гибкая фигура Эллен Терри. Нежная мелодия голоса, мягкая, льющаяся пластика этой актрисы внесли в постановки Лицеума новую тему. Если излюбленными сферами актера Ирвинга были печаль, меланхолия, горечь, ироничная интеллектуальность, то лиричное искусство Терри звучало несколько более мажорно. В шекспировских ролях она оставалась вполне современной, в сущности, женщиной — естественной, и оживленной, и элегантной, с большим шармом. В глазах ее хрупких героинь светился острый своевольный ум. Изящные костюмы Терри, слегка соприкасаясь с историей, гораздо охотнее следовали велениям новейшей моды. Многие современники считали, что Терри могла бы идеально сыграть ибсеновскую Нору. Шоу писал некоторые свои пьесы, прямо рассчитывая на ее талант. Однако Терри оставалась верна Ирвингу и Шекспиру.
В спектакле «Много шума из ничего» Ирвинг и Терри в ролях Бенедикта и Беатриче имели огромный успех. Критик Клемент Скотт писал: «Между Беатриче и Бенедиктом существует тесная связь, он — ее зеркальное отражение, они — эхо друг друга как в начале, так и в конце комедии», и если в первых сценах их «внешнее легкомыслие» придает действию «остро комический тон», то к финалу эта пара «близка к тому, чтобы окрасить пьесу в самые трагические тона». Монологи Бенедикта — Ирвинга «по глубине мысли, продуманности, серьезности не уступают даже монологам Гамлета... Бенедикт в исполнении мистера Ирвинга не просто женоненавистник, не хвастливый самовлюбленный эгоист. Его Бенедикт сперва солдат, потом возлюбленный и — всегда джентльмен»66. Точно так же и Терри, при всем богатстве красок, которые она использовала для этой роли, играя Беатриче то веселой, то презрительной, то негодующей, то грустной, то застенчиво нежной, то насмешливо ироничной, всегда сохраняла достоинство благородной дамы, всегда оставалась шутливой «леди».
После «Много шума» Ирвинг понял, что они с Терри прекрасно друг друга дополняют, что его медлительность и ее подвижность, его серьезность и ее кокетливость создают контрасты, выгодные для обоих. Их дуэт во многом предопределил и художественный строй «Макбета», спектакля, где успех Терри был бесспорным, а успех Ирвинга — более чем сомнительным. Постановка готовилась долго и тщательно. Художник Джозеф Харкер предложил поначалу очень смелое и простое решение: планировку зала, где происходит пир, развернул по диагонали, резко увеличив тем самым глубину сцены и охватив разлетом высоких и тонких арок сразу все пространство. Но Ирвинг этот эскиз забраковал. Оформление, которое он принял, выглядело гораздо банальнее. Декорация встала во фронт вдоль рампы, пространство было расчленено грузными, неуклюжими арками и толстыми приземистыми колоннами. Массовку, которой Харкер отводил место на первом плане, Ирвинг отодвинул в глубину сцены, чтобы освободить авансцену для главных героев. В конечном счете все вышло вполне по-викториански: эклектичная, громоздкая архитектура, картинная и важная мизансценировка, внушительные масштабы и статичные формы. Тем не менее Эллен Терри писала, что пьеса виделась «в духе Россетти — освещение в ней такое, какое обычно дают витражи»67.
Упоминание Россетти в данном контексте довольно неожиданно, однако Терри была права. И в освещении, и в костюмировке чувствовалось влияние прерафаэлитов. Цвет и свет придавали всей неуклюже старомодной внешности спектакля нечто призрачное, таинственное. Не осмеливаясь отказаться от излюбленной и уже привычной для публики грандиозности стиля, Ирвинг пытался сообщить действию мрачный, тревожный колорит. Компромисс между напыщенной архитектурой декораций и трепетным, мерцающим освещением, между картинной эффектностью поз и капризно переливающимися красками костюмов достигался легко. Ирвинговский эстетизм прекрасно уживался с ирвинговской парадностью.
Правда, духовный мир самого Макбета в такой форме спектакля выразить было не просто. Всегдашнее желание Ирвинга облагораживать шекспировских титанов тут, в роли Макбета, свелось к попытке сыграть человека, изнемогающего под гнетом чувства собственной вины. Критик Джордж Одел считал, что игра Ирвинга приобрела болезненно-неврастенический отпечаток: «гонимый к убийству безумным честолюбием и уже давно выносивший план преступления, Макбет после испугавшей его встречи с ведьмами осуществляет свой план», но с этого момента вплоть до конца пьесы он «терзаем тяжкими угрызениями совести»68. По словам Терри, Макбет — Ирвинг «был похож на огромного изголодавшегося волка», и «казалось, он видит силу, с которой не может бороться никто из людей, слышит взмахи ее безжалостных крыльев»69.

Эллен Терри в роли Офелии, 1898
Для самой Терри в роли леди Макбет открылась тема всепоглощающей, безрассудной любви к мужу и к той великой власти, которую он способен завоевать. Ее героиня ни малейших угрызений совести не испытывала, страха не знала и чувства вины не ведала. Ликующая, страстная, упоенная торжеством — такой и запечатлел ее Джон Сарджент на известном портрете, где леди Макбет — Терри, подняв золотую корону над гордо откинутой головой, смотрит с полотна сияющими глазами. Ярко-красные губы чуть приоткрыты, стройный стан, перехваченный двумя широкими золотыми поясами — на талии и на бедрах, — сладостно изогнулся. В тяжелые красновато-рыжие косы, ниспадающие ниже колен, вплетены золотые ленты. Картина написана жгучими, искрящимися красками, в золоте короны отражается медь волос, золотые блики скользят по льющимся складкам дорогой зелено-синей ткани.
В каком-то смысле портрет Сарджента фиксирует основные черты викторианского понимания Шекспира: в нем есть и парадность, и психологическая конкретность, нескрываемый эстетизм и величие, геральдика золотой короны соотнесена с красным пятном чувственного рта, все эффектно и все правильно.
Кроме того, портрет Сарджента таит в себе и некую победительную силу. Она исходит не только от облика ликующей леди Макбет, но и от грубоватой праздничности самого полотна. Красками Сарджента выражено самодовольство сцены. Традиция, впервые громогласно заявившая о себе еще во времена Чарльза Кина, теперь изощрилась. Перед нами — ее упоение собой, ее триумф.
Хотя Макбет — Ирвинг далеко не всем нравился, сам актер был твердо уверен: это его лучшая роль. Быть может, такое чувство удовлетворения пришло к Ирвингу оттого, что Лицеум в конце 80-х годов стал притягателен для всей викторианской духовной элиты: не только Альфред Теннисон, но и известный художник из «Братства прерафаэлитов» Эдвард Берн-Джонс и известный художник-классицист Лоренс Альма-Тадема сотрудничали с Ирвингом. Уже прославившийся Оскар Уайльд часто бывал на ирвинговских спектаклях. Успехи Лицеума получили в 1895 г. сенсационное подтверждение: королева Виктория пожаловала Ирвингу дворянский титул. Отныне он стал «сэр Генри». До него такой чести никогда не удостаивался ни один английский актер.
Примечания
1. The Victorian Mind. L., 1969, p. 3—4.
2. The Victorian Mind. L., 1969, p. 3—4.
3. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. М., 1975, с. 76.
4. The Victorian Mind, p. 5.
5. Уиттик Ар. Европейская архитектура XX века. М., 1960, с. 14.
6. Ruskin I. Works in 39 volumes, vol. 10. L., 1903—1912, p. 212.
7. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973, с. 331, 334.
8. Там же, с. 19.
9. Victorian Dramatic Criticism. L., 1971, p. 352.
10. Joseph B. The Tragic Actor. L., 1959, p. 336.
11. Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976, с. 230.
12. Сноу Ч.П. Троллоп. М., 1981, с. 32.
13. Rosenfeld S. A short History of Scene Design in Great Britain. Oxford, 1973, p. 120.
14. Victorian Dramatic Criticism, p. 96—97.
15. Kindermann, Bd. VII, S. 94.
16. Speaight R. Shakespeare on the Stage. L., 1973, p. 45.
17. Rosenfeld S. Op. cit., p. 122.
18. Victorian Dramatic Criticism, p. 100—101.
19. Joseph B. Op. cit., p. 336.
20. Воспроизведена в цит. выше кн.: Speaight R., p. 34—35.
21. Rosenfeld S. Op. cit., p. 125.
22. Уилсон Э. Указ. соч., с. 160.
23. Сноу Ч.П. Указ. соч., с. 101.
24. Speaight R. Op. cit., p. 45.
25. Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964, с. 190—191.
26. Бэт П. Живопись прерафаэлитов за все время ее существования. СПб., 1900, с. 8.
27. Моррис У. Указ. соч., с. 396.
28. Венгерова З.А. Собр. соч., т. 1. СПб., 1913, с. 49.
29. Ревалд Дж. История импрессионизма. Л.; М., 1959, с. 99—100.
30. Rosenfeld S. Op. cit., p. 128.
31. Kindermann, Bd. VII, S. 101.
32. Laube H. Gesammte Werke. Leipzig, o. J., Bd. 6, S. 110.
33. Ibid., Bd. 5, S. 33.
34. См., напр.: История западноевропейского театра, т. 4. М., 1964, с. 300.
35. Richter H. Unser Burgtheater. Wien, 1918, S. 41.
36. Гервинус. Шекспир, т. 3. СПб., 1877, с. 187, 195, 221—223.
37. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13-ти т. М., 1953—1959, т. 2, с. 293.
38. Станиславский, т. 1, с. 162.
39. Достоевский Ф.М. Полн. собр. худож. произв.: В 13-ти т. М.; Л., т. XII, 1929, с. 91.
40. Станиславский К.С. Статьи, беседы, речи, письма. М., 1953, с. 175.
41. Манн Т. Собр. соч.: В 10-ти т., т. 10. М., 1961, с. 362.
42. Rindermann, Bd. VII, S. 241.
43. Simonson L. The Stage is Set. N. J ., 1932, p. 272—273.
44. Kindermann, Bd. VII, S. 237.
45. Frenzel K. Berliner Dramaturgie, Bd. II. Hannover, 1877, S. 112.
46. Antoine A. Mes souvenirs sur le Théâtre Libre. P., 1921, p. 112, 113.
47. Craig E.G. Henry Irving. N. Y. — Toronto, 1930, p. 111.
48. Терри Э. История моей жизни. Л.; М., 1963, с. 137—139, 142.
49. Victorian Dramatic Criticism, p. 115—117.
50. Артист, № 37. М., 1894, с. 157—158.
51. Victorian Dramatic Criticism, p. 120.
52. Brown J.R. Free Shakespeare. L., 1978, p. 6.
53. Victorian Dramatic Criticism, p. 122.
54. Бернард Шоу о драме и театре. М.; Л., 1963, с. 251, 253, 417, 481—487.
55. Сноу Ч.П. Указ. соч., с. 24.
56. Irving H. The Drama. L., 1893, p. 44.
57. Сноу Ч.П. Указ. соч., с. 61.
58. Craig E.G. Op. cit., p. 191.
59. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Л.; М., 1939, с. 278.
60. Терри Э. Указ. соч., с. 137.
61. Моэм С. Подводя итоги. М., 1957, с. 108.
62. Victorian Dramatic Criticism, p. 116.
63. Kindermann, Bd. VII, S. 109.
64. Терри Э. Указ. соч., с. 208.
65. Victorian Dramatic Criticism, p. 134.
66. Ibid., p. 121—122.
67. Терри Э. Указ. соч., с. 291.
68. Цит. по: Kindermann, Bd. VII, S. 107.
69. Терри Э. Указ. соч., с. 288.
| К оглавлению | Следующая страница |
