Разделы
Счетчики
Глава вторая. Натуралисты и символисты
Шекспир под огнем позитивистской критики. Идеи Золя и практика Андре Антуана. Шоу и Шекспир. Реставраторские опыты Уильяма Поула. Новая драма и проблема героя. Парижский Художественный театр Поля Фора. Театр Люнье-По «Творчество». Артистическая юность Гордона Крэга. Денди против джентльменов. Уайльд и Бердсли. Первый эскиз Крэга к «Гамлету».
В конце XIX в. Шекспир, чьим именем вчера еще клялись, которого изучали, комментировали, почитали, стал мишенью насмешек и атак.
Собственно, этого следовало ожидать. Споры о Шекспире имеют давнюю историю. В XVIII в. Вольтер, первый познакомивший французскую читающую публику с Шекспиром, осуждал английского барда за «неправильность» его пьес, за то, что в них нарушаются принципы единства действия, времени и места. В начале XIX в. некоторые романтики, восхищаясь фантазией Шекспира, все же указывали на «несообразности» его творений: Жермена де Сталь, например, писала о «длиннотах, излишних повторениях, непонятности образов»1. Немецкий драматург Христиан Дитрих Граббе в 1827 г. опубликовал язвительное эссе «О шекспиромании», где, сопоставляя Шекспира с Шиллером, предпочтение отдавал Шиллеру. Согласно Граббе, «хотя Шекспир объективнее Шиллера, все же его исторические драмы (те, которые взяты из английской истории, ибо остальные стоят еще ниже) являются не более чем поэтически приукрашенными хрониками. В них невозможно увидеть никакого центрального пункта, никакой катастрофы, никакой политической цели». Шекспир, в частности, принизил образ Юлия Цезаря, превратил мудрого государственного деятеля в бахвала и болтуна. Еще больше досталось от Граббе «Гамлету»: изречения принца мнимо глубокомысленны, а по сути банальны, остальные персонажи — «просто нули», действие трагедии «спутанно и тягуче», главные события не мотивированы и «сваливаются неожиданно, как снег на голову». В итоге Шекспир «не заслуживает, чтобы его пьесы считали образцом трагедии»2.
Более оригинальные суждения высказывал в начале XIX в. английский стихотворец и критик Чарлз Лэм. Признавая Шекспира великим поэтом, он, однако, полагал, что пьесы Шекспира не сценичны: «в них очень многое не может быть передано актерской игрой и выражено взглядами, тоном или жестами». Особо подчеркивал он «невоплотимость» Гамлета: «Девять десятых того, что происходит с Гамлетом, это счеты между ним и его моральным чувством, излияния его одиноких раздумий, для выражения которых он удаляется в самые потаенные уголки дворца; еще точнее, это лишь молчаливые размышления, теснящие его грудь, воплощенные в слова, чтобы читатель не остался в неведении о том, что происходит с героем. И эта глубокая скорбь, эти боящиеся света и слуха размышления, которые язык опасается произнести даже в окружении глухих стен покоев, — как может передать это жестикулирующий актер, громогласно изъясняющийся перед публикой, делая своими поверенными одновременно четыреста человек?» Точно так же, если не хуже, обстоит дело с Лиром. «Лира в сущности невозможно изобразить на сцене», ибо «величие Лира не в его телесном облике, а в интеллекте», в актерской же игре «нам видны только телесная хилость и слабость, бессилие гнева»3.
Впоследствии мы увидим, что проблема «невоплотимости» Шекспира чрезвычайно занимала и Крэга.
Но вообще-то в те времена мало кто задумывался над вопросом, сценичен ли, воплотим ли Шекспир? Сомнение вызывало другое: надо ли вообще воплощать шекспировские вымыслы? Здравомыслящий, трезвый рассудок превыше всего ставил «историческую истину». Ее критериями поверялось даже священное писание. В 1860 г. в Англии вышел нашумевший сборник «Эссе и рецензии», семь авторов которого дружно атаковали библию. Их оппонент, ортодоксальный церковник, епископ Джон В. Колензо пытался защищать библейские тексты, но и он, скрепя сердце, вынужден был признать, что легенды о Моисее, увы, на «историческую истину» претендовать не могут. Как только епископ сделал это признание, его объявили еретиком4.
Тем, кто критиковал не библию, а Шекспира, такие неприятности не угрожали. И в Англии, и на континенте всячески старались уличить Шекспира в невежестве, а заодно и вообще опровергнуть всю «театральную ложь». Терпение иссякло. «Они швыряют вам в голову Шекспира и Мольера!» — отчаянно возопил Эмиль Золя, имея в виду актеров, театры, их пышно костюмированные, но далекие от достоверности представления5.
Вопрос ставился ребром: или — или. Либо правда, либо вымысел, одно из двух, третьего не дано. Альтернатива решалась в пользу знания. Шекспир не устраивал золяистов, как минимум, по двум причинам: во-первых, подобно всем сочинителям, он лгал, во-вторых, подобно всем классикам, уводил прочь от насущных проблем современности.
Хорошо известно, что утверждение натурализма в литературе и на театре (отчасти и в живописи) было обусловлено ускоренным развитием науки. Менялась — на глазах у художников — вся картина мироздания. Системы, предложенные Дарвином и Менделеевым, по-новому ее упорядочивали. Желание увидеть человека в ярком свете, излучаемом наукой, накладывало неизбежный отпечаток на искусство. Оно расширяло свой кругозор и стремилось учесть воздействие на человека окружающей среды, в самом же человеке выявить и сферу биологическую.
В искусство одновременно вторгались мотивы конкретно социальные и конкретно физиологические. Во многом эти мотивы предопределили эстетику натурализма. Натуралисты возражали и против пафоса историзма, и против традиций как таковых, ни отдаленное прошлое, ни классика их вообще не интересовали. Золя прямо говорил, что люди театра должны бы «побольше изучать природу и поменьше — классический репертуар». Целью искусства провозглашалось зеркально-точное отражение окружающей действительности. «Ведь что такое натурализм, попросту говоря? — пояснял Золя, — В науке натурализм — это возвращение к опыту и анализу, к химическим и физическим открытиям; это точный метод, который определяет ныне наши знания... В литературе же, особенно в романе, натурализм — это непрерывная компиляция человеческих документов, это человечество, увиденное в его реальном и вечном»6.
Пафос романа Золя «Творчество» (который обычно пристально изучают в одном только аспекте драматического конфликта между Золя и Сезанном) состоит в утверждении непосредственности восприятия внешнего, видимого мира. Это, по Золя, главное условие истинного искусства. Искусство не должно — и не вправе — видеть дальше «свежо и непосредственно воспринятого пучка моркови». Никакие идеи, никакие «смыслы» не нужны: они исказят натуру. Теоретик натурализма Ипполит Тэн выразил эту концепцию кратко: «Моя обязанность лишь изложить факты и показать вам происхождение этих фактов»7.
Скептически поглядывая на излишне красноречивых и несоразмерных с обыденной нормой героев Шекспира, натуралисты противились вообще всякой героической концепции личности, ибо решительно ничего возвышенного в обозримой буржуазной реальности не усматривали. Свою миссию они видели в том, чтобы, отбросив иллюзии прочь, подвергнуть эту реальность беспристрастному анализу и предать свои наблюдения гласности.
Между натурализмом прозы и натурализмом сцены существовала большая дистанция: масштабы романа всегда намного превосходили масштабы спектакля. Золя пристально разглядывал социальный механизм целого города, театральный режиссер Андре Антуан, который с гордостью называл себя «верным солдатом армии Золя», изучал действие этого механизма в скромных комнатных пределах. Читатели Золя видели кварталы, площади, многоэтажные здания, зрители Антуана — гостиные, кабинеты, подвалы, помещения парижских лавчонок. Тем не менее и в широких рамках романа, и в сравнительно узких рамках спектакля устанавливалась одна и та же закономерность: человека подавляла среда. Условия существования, окружение, ход социального бытия — вот что заставляло человека действовать так или иначе, поступать так или этак. «Среда, — твердо сформулировал Антуан, — определяет движения персонажей, а не движения персонажей определяют среду»8.
Поэтому старому представлению о герое, об экстраординарной личности, обладающей свободой воли, натуралисты резко противопоставили идею абсолютной зависимости ординарной личности от давления извне. Акцент переносился с внутреннего мира человека на внешние обстоятельства его жизни. Достаточно было достоверно изобразить «западню среды», правдиво показать семейный разлад, гнилые трущобы, пьянство, дурную наследственность, болезни, изнурительный труд, чтобы увидеть, что здесь нет места герою, тут ему нечего делать. В искусстве натуралистов идеал был бы недоступной роскошью, а герой — смешной фигурой. Золя считал, что об идеалах болтают те, кто боится правды.
Дегероизация возникала как прямой и неизбежный результат пристального изучения современной действительности.
Определенная парадоксальность позиции натуралистов состояла, однако, в том, что, абсолютизируя детерминированность человека средой, вынужденность любого поступка, предопределенность действия, они по сути-то дела заново воспроизводили религиозную модель бытия, идею метафизического предопределения человеческой судьбы. Хотя натуралисты, чуждые всякой мистике, выступали от имени науки, присягали на верность точному знанию, неопровержимому факту, тем не менее, как только они превратили факт в фетиш, в их концепцию мира под псевдонимом «среда» вкралась мистическая вера в изначальную предначертанность линии каждой отдельно взятой жизни. Среде придавалось значение роковое. Это-то вскоре и позволило символистам, выдвинувшим полярно противоположную концепцию мира, воспользоваться некоторыми приемами натуралистов. Тайную мистику натурализма символисты сделали явной, понятие среды заменили понятием Рока, и отлаженная натуралистами машина легко дала задний ход.
«Чистый» натурализм, как справедливо заметил французский театровед Сильван Домм, «породил весьма худосочную драматургию»9. Но режиссеры-натуралисты были, и им ни в полнокровии, ни в последовательности не откажешь. Наиболее настойчиво внедрял золяистские принципы в сценическую практику руководитель парижского Свободного театра Андре Антуан. Он ясно сознавал свои задачи. Его искусству потребовалась обстоятельная, подробная и узнаваемая характеристика места действия. Ибо вопрос, где происходит действие был для натуралистов гораздо важнее, чем вопрос, кто, собственно, действует. Ради создания убедительного образа среды пришлось по-новому осмыслить пространство сцены. «Пространство, — писал французский театровед Дени Бабле — для натуралистов имеет значение капитальное: чтобы создать на сцене впечатление, аутентичное доподлинной жизни, следует организовать картину, которая бы полностью предопределяла все движения персонажей внутри нее»10.
Желая придать спектаклю значение «выреза из жизни», Антуан вынужден был употребить максимум усилий, чтобы превратить сценическое пространство в «жизненное». Весь антураж, все аксессуары — поношенные костюмы, выцветшие обои, подержанная, потрескавшаяся мебель — говорили об одном: о том, что здесь, внутри видимого публике уголка действительности, под бременем обыденных забот, влачится обыденное существование. Забота о «красоте» спектакля теряла всякий смысл, пафос воспринимался как признак фальши. Вместо декламации нужна была разговорная речь.
Сцена больше не хотела сознаваться в том, что она представляет собой место, предназначенное для актерской игры. Самое слово «игра» зазвучало одиозно: в нем чудился оттенок пустой забавы, неприемлемой для художника, который служит серьезным целям познания. Не игра, а правда, чем неприятнее, тем лучше, не «представление», а заурядная «картина жизни» — таков был девиз.
Чтобы «организовать картину» понадобилось, во-первых, отделить сцену от зрительного зала условной, как бы прозрачной «четвертой стеной», сквозь которую публика видит жизнь персонажей, а во-вторых, все прочие условности театрального действия скрыть, подавить, если не уничтожить, то свести к минимуму. Проще всего такая цель достигалась в интерьере. Сценический натурализм как огня боялся живой натуры, пейзажа, даже городского. Писаные задники приводили Антуана в ужас. «Эта странная вещь, — говорил он с отвращением, — висит в трех метрах от рампы, при ярком свете, не оставляя никакого сомнения в обмане»11. Вид парижской улицы гораздо хуже, чем мебель, посуда и прочие предметы бытового обихода, соотносился с фигурами действующих лиц. Поэтому Антуан — сравнительно с Золя — последовательно уменьшал в масштабах свои социально достоверные картины, показывая сквозь четвертую стену убогое нутро лавчонок и комнатушек. Его наблюдательность в узких рамках интерьера, который Антуан называл «обитаемой декорацией», обладала и зоркостью, и неоспоримой аналитической точностью.
Освещение Антуан все время старался приблизить к реальному, поэтому часто размещал источники света не за пределами сцены (рампа, софиты и т. п.), а внутри нее, непосредственно над планшетом, расставлял лампы на столах, например. И яркими эти светильники не бывали. Сценические «картины» Антуана, как правило, темны, печальны.
Такой же отпечаток понурости обрели у Антуана и самые удачные массовки во «Власти тьмы» (поставленной раньше, чем в России, в 1888 г.), в «Ткачах» Гауптмана (1893). Толпа раздраженных, возбужденных людей, одетых в мятые пиджаки и потертые брюки, с мрачноватой экспрессией размещена и мизансценирована Антуаном в бедном, но достоверном интерьере. Деревянные столы, деревянные табуретки, деревянные переплеты окон — вот, собственно, и вся обстановка, обступающая драму. Толпа замкнута в четырех стенах (четвертая стена условно отделяет ее от зрительного зала), движение, сейчас и здесь начавшееся, не имеет и не может иметь продолжения за сценой — оно полностью заключено в пределах сценического пространства. Замкнутость композиций вообще характерна и принципиальна для режиссуры Антуана. Выйти из интерьера он страшился.
Только Станиславский и Немирович-Данченко в импрессионистских чеховских спектаклях раннего МХТ сумели раздвинуть границы картины так широко, что сквозь четвертую стену стали видны то пасмурные, то солнечные пейзажи, интимно сопряженные с атмосферой действия и с настроением действующих лиц. Театр натуралистов этих понятий — «атмосфера», «настроение» — еще не знал.
У Антуана было немало приверженцев. Вслед за его парижским Свободным театром возникло целое движение свободных театров, самым сильным из которых был театр Отто Брама в Берлине, а самым слабым — Независимый театр Джекоба Брейна в Лондоне. Оно и понятно: натурализм имел, конечно, мало шансов укорениться в викторианской почве, ибо постановочные идеи натуралистов шли очень уж вразрез с обычаями викторианской театральности. Поэтому новшества Независимого театра ограничивались попытками познакомить островитян с нашумевшими сочинениями континентальных драматургов, прежде всего Ибсена. Но и этого было достаточно, чтобы произошел форменный скандал. Грейн в 1891 г. показал «Привидения», и хотя внешняя форма спектакля добропорядочно следовала обычным приемам воплощения мелодрам, отнюдь не дерзая дать «вырез из жизни», тем не менее английские рецензенты тотчас же объявили всех поклонников Ибсена «собаками, роющимися в помойке», писали об «открытой клоаке», о том, что пьеса с точки зрения общественной — вещь «безответственная и грязная», хуже того, «блевотина, пахнущая скотством и цинизмом». Доставалось и зрителям: рецензенты заявляли, что в зале Независимого театра собираются «люди с грязным образом мысли, которые любят дискутировать на грязные темы... Они возбуждены сознанием, что участвуют не только в кое-чем грязном, но и в кое-чем незаконном». Спустя некоторое время Бернард Шоу тщательно собрал в один букет все эти цветочки рецензентского красноречия12, чтобы напомнить, с какими предубеждениями он столкнулся, пропагандируя Ибсена и отвоевывая для ибсеновских пьес достойное место на английской сцене.
Как справедливо заметил А. Аникст, Шоу «боролся не столько против Шекспира, сколько против культа Шекспира»13, причем цель у него была вполне практическая: вытеснить Шекспира из репертуара театров Лондона, дабы очистить подмостки для «новой драмы» — Ибсена, Гауптмана, самого Шоу. В такой борьбе все средства были хороши. В статьях и письмах Шоу с блестящим остроумием высмеивал Шекспира, а затем без обиняков рекомендовал актерам и режиссерам взамен «устаревших», «скучных» шекспировских трагедий и комедий свои собственные, по его словам — неизмеримо более интересные и, конечно же, более актуальные пьесы.
Но в антишекспировских бутадах Шоу последовательности не было*. Что Ибсен лучше Шекспира, это он доказывал просто: ведь «чем ситуация ближе нам, тем интереснее может быть пьеса», а шекспировские ситуации для нас чуждые, «наши дяди редко убивают наших отцов и не часто становятся законными мужьями наших матерей. Мы не встречаемся с ведьмами. Наших королей не всегда закалывают, и не всегда на их место вступают те, кто их заколол. Наконец, когда мы добываем деньги по векселю, мы не обещаем уплатить за них фунтом нашей плоти». Ибсен нам ближе, ибо «то, что случается с его сценическими героями, случается и с нами». Отсюда вытекает «несравненно большее значение для нас его пьес по сравнению с шекспировскими»14. В то же самое время Шоу резко отчитывал Ирвинга: зачем подминает под себя шекспировских героев, зачем своевольно перекраивает шекспировские пьесы. Логика тут слегка пошатывалась, и тем очевиднее была переменчивая и лукавая тактика борьбы за новый репертуар. Биограф Шоу Хаскет Пирсон, который лично знал драматурга и много с ним беседовал, пояснял: «У Шоу было два серьезных основания для нападок на Шекспира: во-первых, Шоу старался привлечь к себе внимание и, во-вторых, добивался признания для Ибсена»15. Однако, атакуя Шекспира, Шоу походя сокрушал и викторианские представления о Шекспире, а восставая против «банальностей» Шекспира, способствовал — нередко сам того не желая — более глубокому, очищенному от трюизмов романтической театральности, постижению шекспировской поэзии.
Поколебать авторитет Шекспира ни Золя, ни Шоу, ни их приверженцы не смогли. Позднее это не удалось и Льву Толстому. Но антишекспировская критика многих заставила усомниться в том, что раньше сомнению не подвергалось: в красоте и целесообразности сложившейся формы шекспировского спектакля.
Противоречие между тяжеловесной статичностью викторианского постановочного стиля и вольной динамикой шекспировской драмы в Англии раньше других осознал Уильям Поул. Начиная с 1881 г. он предпринял серию экспериментов, пытаясь в противовес молодой викторианской традиции возродить традицию старинную, елизаветинскую и пробуя ставить пьесы Шекспира на сцене, устроенной примерно так, как была устроена сцена шекспировских времен.
Интересные опыты Поула имели широкий резонанс. Некоторые историки театра склонны считать, что идеи сценического традиционализма, увлекавшие многих мастеров XX в., изначально восходят к работам Поула. Следует все же напомнить, что задолго до Поула аналогичные идеи — применительно именно к Шекспиру и к елизаветинской сцене — были высказаны в Германии: сперва Гете, затем Людвигом Тиком.
Еще в начале XIX в. Гете утверждал, что так называемое «несовершенство английских театральных подмостков» XVII столетия имеет свои преимущества перед «усовершенствованной техникой» нового времени. Старая сцена возбуждала фантазию зрителя, новая сцена ее усыпляет. Гете с иронией отзывался об «искусстве перспективы и костюма», которым овладел современный ему театр, и о «требованиях натуральности», которым театр так старательно угождает. Автор «Фауста» мечтал «вновь очутиться перед подмостками, на которых мало что можно увидеть, где все только «означает», где публика охотно соглашается предполагать за зеленым занавесом покои короля и не удивляется, что трубач всегда трубит на одном и том же месте». Гете понимал, однако, что его мечтания несбыточны: «Кто в настоящее время согласится на что-либо подобное?»16.
Спустя короткое время мечты, которые самому Гете казались у топическими, подхватил и предложил в качестве руководства к практическому действию Людвиг Тик. Написанная Тиком в 1836 году «новелла в семи частях» (в сущности, большая повесть) «Молодой столяр» содержит подробный рассказ о том, как осуществлялась любительская постановка «Двенадцатой ночи» Шекспира. В новелле действуют, в частности, молодой человек Леонард и профессор Эммрих, в чьи уста Людвиг Тик вкладывает свою программу преобразования сцены. Леонард, повествует Тик, «был очень удивлен, когда Эммрих предложил ему перестроить театр так, чтобы он захватил всю длину зала, а не занимал, как сейчас, только половину пространства. Тем самым мы достигнем, сказал профессор, того, что все зрители будут сидеть гораздо ближе, а просцениум станет гораздо более широким. Конечно, мы потеряем при этом глубину сцены. Но глубина сцены — это как раз то самое, что меня раздражает во всех других театрах и что только бесконечно затрудняет игру хороших актеров. Гете в «Вильгельме Мей-стере» сказал однажды, что было бы желательно расположить всех артистов на одной узкой полосе. Мы значительно приблизимся к этой цели, если откажемся от излишней глубины наших сцен...
Затем профессор протянул сосредоточенному Леонарду чертеж, где посреди сцены, в нескольких футах от края просцениума, были обозначены две колонны, поддерживавшие на высоте десяти футов довольно широкий балкон. Колонны стояли на широких ступенях, еще больше сжимая глубь просцениума. Вы видите, сказал Эммрих, я стремлюсь выдвинуть актеров на передний план, как можно ближе к зрителям. Эти три ступени ведут вверх к маленькой внутренней сцене, которая иногда закрыта занавесом, а иногда открыта; при случае она может представлять собой поле, пещеру или комнату; в нашей пьесе она сперва будет комнатой, где бесчинствуют пьяницы, потом беседкой, где расположились, подслушивая монолог разъяренного Мальволио, насмешники. К верхнему балкону справа и слева ведут ступени изрядной ширины. Тут можно устраивать сцены совещаний, даже целых парламентов, причем несколько актерских фигур сразу создадут впечатление многолюдья. На передние и боковые ступени будут падать умирающие и, конечно, их распростертые тела тут будут выглядеть гораздо живописнее, чем в наших театрах. К колоннам могут прислоняться те, кто в меланхолии, или же те, кто о чем-то задумался. По ступеням справа или слева может зашагать вверх Макбет, тут же может гулять Фальстаф с веселыми бабенками... Здесь, внизу, возвышаясь над ступенями, могли бы сидеть король и королева с Гамлетом, здесь был бы стол Макбета, где ему явился Банко...
Когда надо, например в исторических пьесах, наверху, на балконе могут появляться действующие или беседующие персонажи; в «Генрихе VIII» ступени справа и слева превращаются в скамьи парламента, в центре сидит Вулси, а над ним, на внутренней сцене, король Генрих. При любых обстоятельствах, независимо от того, много или мало актеров на сцене, группировки всегда будут упорядочены как на полотнах Рафаэля и других больших живописцев».
Далее Тик утверждал, что «нельзя по-настоящему понять Шекспира», если не знать, как выглядела старая английская сцена. По его мнению, «французы, ошибочно воображая, будто их драмы соответствуют старинным образцам, сформировали новое сценическое устройство, пригодное для таких трагедий и комедий, где немногочисленные персонажи только разговаривают друг с другом и где нет надобности ставить массовые сцены, скопления народных толп, осады крепостей. Мы, немцы, тоже переняли эту разговорную, узко ограниченную игру, а теперь чувствуем, что нынешняя сцена тесна, старая английская или европейская форма забыта, и мы мучаемся с далекими от художественности декорациями, строим в антрактах холмы и крепости, галереи и террасы и чувствуем, как отдаляются друг от друга, как противоречат друг другу текст и театр, как все выходит тяжело, трудоемко и неуклюже... Если мы хотим поставить Шекспира по-настоящему, не искажая его, то начать надо с устройства театра, сходного с шекспировским»17.
«Молодой столяр» никогда на русский язык не переводился. Между тем в этой новелле предпринята первая, в сущности, попытка осознать эстетические особенности театра времен Шекспира, и хотя Людвиг Тик допустил ряд очевидных сегодня исторических оплошностей, тем не менее дальнейшие изыскания показали, что в общих чертах, в принципе он верно представлял себе устройство елизаветинской сцены. Более того, спустя некоторое время Тик решился это устройство реконструировать и в 1853 г. в Потсдаме поставил «Сон в летнюю ночь» на трех взаимосвязанных игровых площадках, отказавшись от декораций. Основными элементами оформления спектакля служили неподвижные колонны и сцена. Рихард Вагнер по этому поводу высказался так: «Тик был реставратором радикальным и как таковой достоин уважения, но влияния, он не имел»18.
Когда Вагнер начертал свой приговор, он, конечно, не мог предвидеть, что через сорок лет опытами Тика заинтересуется и продолжит их англичанин Уильям Поул. Для Вагнера вопрос, как должно ставить и играть Шекспира, имел значение второстепенное. Судьба шекспировской драматургии занимала композитора лишь постольку, поскольку она могла послужить аргументом в пользу его собственной концепции «музыкальной драмы». Но характерно: считая бесперспективной «радикальную реставрацию», Вагнер столь же скептически относился и к надежде поставить на службу Шекспиру многосложный механизм современной сцены, ее всемогущую технику, уже научившуюся творить чудеса «быстрой смены декораций соответственно обстоятельствам». Вагнер полагал, что вся эта машинерия умертвит шекспировскую поэзию, превратит образы Шекспира в «необозримую массу реальности и действий» и, в конечном счете, вызовет «разочарование в шекспировской трагедии». Нужен был какой-то третий путь, но указать его Вагнер не мог.
На родине Шекспира проблему ускоренной смены декораций и сохранения подвижности многоэпизодной шекспировской драмы еще в 1844 г. попробовал было самым простым способом решить Бенджамин Уэбстер. В театре Хаймаркет он поставил «Укрощение строптивой», вовсе не загромождая планшет и быстро манипулируя писаными задниками, изображавшими то или иное место действия. Впрочем, спектакль Уэбстера особого интереса не вызвал и скоро был забыт.
Серия «елизаветинских» постановок Уильяма Поула началась «Гамлетом» 1881 г. Основательно изучив опыты Людвига Тика, Поул свято уверовал, что точная реконструкция устройства сцены шекспировских времен откроет ему верный путь к подлинно шекспировской образности. Викторианский стиль, превращавший постановки шекспировских трагедий и комедий на сцене Лицеума в «пиршество для глаз», был Поулу ненавистен. А. Бартошевич, автор новейшего исследования искусства Поула19, указывает на антипатию молодого режиссера к «пышным сценическим ритуалам» Ирвинга и на стремление Поула увидеть пьесы Шекспира «такими, какими их видел сам Шекспир» — на голых подмостках.
В самом общем плане творчество Поула выразило характерное стремление противопоставить «викторианскому культу материальных ценностей» ценности духовные, эстетике буржуазной — до-буржуазную, атаковать «религию купцов» с прерафаэлистских позиций «религии поэтов». Об этом, как и о взаимосвязях практики Поула с эстетическими воззрениями Джона Рескина и Уильяма Морриса, в работе А. Бартошевича говорится обстоятельно и точно.
Представляется все же, что Бартошевич с излишней доверчивостью воспринял декларации Поула. «Некоторые, — говорил Поул, — называют меня археологом, но я не археолог. На деле я современный художник. Моя подлинная цель была в том, чтобы найти способ играть Шекспира естественно и увлекательно по полному тексту как в современной драме». Это заявление Поул сделал в 1913 г. Позади оставались уже три десятилетия исканий и все наиболее принципиальные его постановки («Мера за меру», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Комедия ошибок», «Двенадцатая ночь» и др.). Внимательный анализ названных спектаклей показывает, что «некоторые» — те, с кем Поул спорил в 1913 г., — имели определенные основания считать его «археологом». Ибо Поул при всех условиях в первую очередь старался показать, «как было», как разыгрывалась та или иная пьеса в елизаветинские времена.
Представления «Общества Елизаветинского театра» давались либо в обычных театральных зданиях, где Поул сооружал перед сценой дополнительные деревянные подмостки, либо на открытом воздухе, либо, наконец, в залах средневековых корпораций и гильдий. О том, как была устроена елизаветинская сцена, тогда еще знали сравнительно мало, поэтому подготовке спектаклей сопутствовали научные изыскания, существенно обогатившие историю театра.
Если на сценах Лицеума (у Ирвинга) или театра Хаймаркет (у запоздалого викторианца Бирбома Три) историзм, пусть сомнительный, пусть излишне помпезный, имел своей целью воссоздание облика и антуража эпохи, которой посвящена пьеса, то в постановках Поула историзм, тоже неизбежно приблизительный, ставил перед собой задачу воссоздания облика и антуража спектакля елизаветинской поры. В одном случае доминировал интерес к истории общества, в другом — к истории театра. Но и в том и в другом случае «ученость», столь любезная XIX в., предопределяла характер театрального действа.
Отвергая роскошество композиций Ирвинга, Поул в его бедных и скромных по внешности работах все же оставался человеком своего времени, ибо вполне по-викториански верил в могущество точного знания и полагал, что достоверная реставрация — уже в силу одной ее достоверности — не может не заинтересовать зрителей.
Историзм по-мейнингенски, адресуясь к прошлому и желая восстановить былое согласно новейшим данным науки, парадоксальным образом не испытывал ни малейшего тяготения к ценностям старого искусства. На старого Шекспира высокомерно поглядывали с позиций нового знания. Такое же высокомерие таилось и в реставрациях Поула. Старательно воссоздавая не елизаветинскую эпоху, а елизаветинский спектакль, Поул почтительно, со всевозможными реверансами, все-таки отводил Шекспиру второстепенное и подчиненное место: сперва исторически точно реконструированное устройство сцены, а потом уж Шекспир, к этому устройству приспособленный, подогнанный и, значит, как бы сосланный в прошлое, отлученный от продолжающейся жизни.
А. Бартошевич справедливо замечает, что абсолютно точная, педантичная реконструкция старинной сцены и старинной сценичности вообще «невозможна». Но это ясно сейчас, а в XIX в. думали иначе, и Поул думал иначе. По словам Бартошевича, «стремление Поула вернуться вспять, к истокам, начать все сначала было исполнено фанатического радикализма», Поул хотел «понять (и заставить понять других) Шекспира как человека своей эпохи, современника Рэли, Сесила, Фробишера»20. Это означает, что Шекспир, с которым общался Поул, не мог быть ни современником, ни собеседником Уайльда, Шоу или Бердсли, хотя Шоу, как известно, сочувственно отзывался о предприятиях Поула. В том театральном музее, который создавал Поул, каждая пьеса Шекспира выглядела как старинная достопримечательность, как своего рода экспонат.
Правда, самая достоверность этих «экспонатов» вызывала определенные сомнения, и даже Шоу, в принципе поощряя методы Поула, оговорился: «я поостерегусь признать их за методы шекспировского театра». С точки зрения Шоу, в постановках Поула привлекательно было стремление выдвигать действие в зал: «я уверен, — писал Шоу, — что любая пьеса, поставленная на сцене, окруженной с трех сторон зрителями, скорее дойдет до их сердец, чем когда ее показывают на сцене-коробке»21. Но играть посреди зала артистам Поула удавалось редко, гораздо чаще им приходилось довольствоваться выходами на авансцену.
Елизаветинское устройство сцены, которое в различных вариациях и в различных помещениях, то так, то этак, воспроизводил Поул, конечно, предоставляло ему определенные преимущества. Шекспировский спектакль без кулис и без декораций, без занавеса и почти без антрактов шел быстрее, нежели в других, более солидных театрах. Поэтому Поул мог ставить пьесы Шекспира без обычных в то время купюр, но это не означает, что он будто бы бережно относился к тексту. Напротив, как свидетельствует Дж. Стайен, Поул «вовсе не был пуристом по отношению к текстам» и «без колебаний вырезал целые куски, столь дорогие викторианским сердцам»22. Отказавшись от декораций, Поул получил возможность уделить больше внимания ритмике стиха и звучащему слову. Репетируя, он старался, замечает Стайен, «настроить мелодию» пьесы, распределяя роли «так, словно это была опера». В «Двенадцатой ночи», например, согласно Поулу, Виола — меццо-сопрано, Оливия — контральто, Мария — высокое сопрано, Орсино — тенор, Мальволио — баритон, сэр Тоби — бас, сэр Эндрю — фальцет, причем Поул требовал, чтобы каждый из исполнителей владел своим голосом как минимум «в охвате двух октав»23. Театр Поула адресовался не столько к зрителям, сколько к слушателям. Режиссер даже репетиции чаще всего вел с закрытыми глазами.
Во всех без исключения пьесах, где бы и когда бы ни происходило действие, Поул упорно наряжал персонажей в английские одежды XVI—XVII вв. По этому поводу критик Чарльз Монтегю пошутил: «только мистер Поул может позволить себе быть таким догматиком»24. В шутке таилась большая доза истины, и Стайен впоследствии заметил, что Поул «безжалостно» одевал все пьесы Шекспира в костюмы шекспировских времен «как бы специально для того, чтобы визуально напомнить о своих поисках аутентичности»25.
Во имя той же «аутентичности» Поул во второй постановке «Гамлета» (1900) вполне по-елизаветински поручил все женские роли актерам-мужчинам. Воспроизведение старинного спектакля становилось самоцелью. Английский театровед Р. Спейт по этому поводу писал: Поул «выдвинул оригинальную идею прочитать пьесу так, словно он только что одолжил ее у суфлера театра «Глобус». Он был на стороне логики — против предрассудка, на стороне здравого смысла — против театральной условности»26. Вернее все же было бы сказать, что Поул отвернулся от викторианских условностей во имя условностей елизаветинских.
Хотя актеры Поула играли чаще всего на трех площадках и порой пересекали линию рампы, спускаясь в зрительный зал, хотя Поул заботился о сохранении шекспировского распорядка действий и стремительно переходил от эпизода к эпизоду, тем не менее мизансцены его спектаклей были, как правило, довольно статичными. Смена эпизодов совершалась быстро, но каждый отдельно взятый эпизод исполнялся медлительно. Шекспировские трагедии и комедии в такой интерпретации лишались жанровой определенности, становились схожи с «разговорными» пьесами. Исподволь в реставрации Поула проникал дух буржуазной драмы XIX в.
В 1896 г. спектакль Поула «Два веронца» увидел французский режиссер Люнье-По. Он тотчас же напечатал в парижской газете «Ля Нувель Ревю» восторженную статью «Шекспир без декораций», а в 1898 г. попытался по методу Поула разыграть комедию «Мера за меру», причем соорудил елизаветинские подмостки на арене цирка.
Любопытно, однако, что в самой Англии у Поула были приверженцы, но не было последователей. Доносившиеся с другого берега Ламанша слухи о натуралистических постановках Антуана в Париже и Отто Брама в Берлине тоже воспринимались в Англии с холодным недоумением. Опыт Независимого театра Джекоба Грейна доказал, что искусство, которое пало так низко, в Лондоне никаких шансов на, успех не имеет.
Более благоприятные перспективы открывались для символистов, ибо к символистской эстетике английское общественное мнение было в известной мере подготовлено прерафаэлитами. На 70—80-е годы падает творчество Берн-Джонса, в эту пору накатывает «третья волна» исканий прерафаэлитов27, а на континенте у них появляются многочисленные последователи. Историк прерафаэлитского искусства Р. Барилли говорит даже о возникновении как бы некоего «прерафаэлитского интернационала» художников Европы28. И хотя многие мотивы творчества прерафаэлитов постепенно вобрал в себя и растворил в себе викторианский стиль, тем не менее (или именно поэтому) социальная их репутация упрочилась. Артистическая молодежь увлекалась воззрениями Джона Рескина и Уильяма Морриса, а затем без труда усваивала мысли Уолтера Патера, который звал к «чистой красоте», свободной от оков морали, к поискам самодовлеющей и самоцельной художественной формы. Теоретические трактаты Патера расчищали путь для таких писателей, как Уайльд, и для таких художников, как Бердсли.
В Европе символизм возник почти одновременно с натурализмом, ему в параллель и в противовес. Обе новые школы компромиссов не признавали. Натуралисты упрямо глядели вниз, вникая в социологию, физиологию, да и в патологию современного бытия, отвергая красоту во имя оглашения истины. Их интересовало только сегодняшнее и посюстороннее. Символисты же ставили знак равенства между истиной и красотой и устремляли свой взор ввысь, к потустороннему и вечному.
Натуралисты хотели быть объективными. Тенденциозность проникала в их творчество просто потому, что, демонстрируя конкретные факты, оно волей-неволей выдвигало обвинения против современного общественного строя. Докапываясь до правды, натуралисты подкапывались под стены социального здания. Для символистов, напротив, аксиомой было право художника на субъективное творчество, на поиски прекрасного в сфере свободного вымысла.
Как справедливо писал А.Ф. Лосев, понятие «символ» символисты толковали «очень узко, а именно как мистическое отражение потустороннего мира в каждом отдельном предмете и существе посюстороннего мира»29. Поясняя, что символ как способ раскрытия смысловой глубины и смысловой перспективы явления есть форма конденсации жизненного опыта, в принципе всегда свойственная художественному творчеству, Лосев напоминал такие, например, образы-символы, как пушкинский медный всадник, гоголевская птица-тройка, чеховский вишневый сад и т. п. Символисты, побочные дети века разума, порядка и системы, попытались идентифицировать произведение искусства с символом и превратить художественное творчество в своего рода таблицу мистических знаков инобытия, зашифровывавших живую реальность и условно ее заменявших. Полемика с натуралистами эту системность еще усугубила. Символы становились вездесущими, они применялись по любому, нередко малозначительному поводу, и при этом, понятно, происходила их девальвация. Широко тиражируясь, символы обеднялись, теряли глубинный смысл, превращались, по меткому выражению О. Мандельштама, в «подобия» явлений и предметов. «Вечное подмигивание, — сухо констатировал поэт. — Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой»30. Разумеется, далеко не всегда в творчестве символистов символы были столь плоскими и однозначными. Но тенденция к однозначности, к низведению символа до аллегории в принципе характерна для символистской эстетики.
Забегая вперед, скажем, что в театроведческой литературе, и советской, и западной, Крэга часто называют «режиссером-символистом». (В прежних своих работах таким определением пользовался и автор данной книги.) Однако если в ранних крэговских постановках связь с эстетикой символизма действительно заметна, то зрелое творчество Крэга эту связь разрывает, порождая символы, в которых дистанция между явленным и сущим велика, внешность и смысл соотнесены многозначно и находятся в чрезвычайно сложной зависимости друг от друга. Образы-символы, сопряженные с шекспировской трагедийностью, в крэговской искусстве обретали, как мы увидим далее, сродство и сходство с образами-мифами. И возлагали на плечи героя груз величайшей ответственности не только за его собственную участь, но и за судьбы всего человечества. Символистскому мироощущению такая структура символа и такая концепция героя не свойственны.
Почти никто из авторов новой драмы не был вполне последовательным символистом**. В творческой биографии Гауптмана символистский «Потонувший колокол» (1896) непринужденно поместился между двумя образцовыми натуралистическими драмами «Ткачи» (1892) и «Возчик Геншель» (1898). У Ибсена после таких философски-символических стихотворных драм, как «Бранд» (1866) и «Пер Гюнт» (1867), выразителен переход к прозе и обличениям «Столпов общества» (1877), «Кукольного дома» (1879), но затем в «Привидениях» (1881), «Дикой утке» (1884) и особенно в «Росмерсхольме» (1886) натуралистический метод снова выводит писателя к символистским итоговым образам.
Когда мастера новой драмы обращались к историческим сюжетам, в их творчестве тотчас же обнаруживалась зависимость от Шекспира. Шекспировские уроки сказались в «Претендентах на престол» и «Воителях Гельголанда» Ибсена, в «Мастере Улуфе» и «Эрике XIV» Стриндберга, во «Флориане Гейере» и «Шлюке и Яу» Гауптмана. В отличие от Золя и Шоу, ни Ибсен, ни Гауптман, ни Стриндберг, ни Метерлинк от Шекспира не открещивались. Наоборот, нередко они понимали Шекспира и тоньше, и глубже, чем современные им шекспироведы.
Стриндберг, в частности, поставил под сомнение предложенное Гервинусом истолкование театра Шекспира как театра «характеров» и не соглашался с теми, кто упрекал Шекспира в непоследовательности. «Вообще, — писал он, — непоследовательности нет... Недалекие люди вечно кричат о противоречиях и непоследовательности. Между тем, все живое состоит из элементов неоднородных; часто они должны быть противоположными уже для того, чтобы сливаться воедино». Доказательством этой мысли служили образы Офелии, Полония, Гамлета. Гамлет, продолжал Стриндберг, «только кажется противоречивым: доброта и злоба, ненависть и любовь, цинизм и мечтательность, сила и слабость. Словом, это человек, меняющийся с каждым мгновением как всякий живой человек... Шекспир изображает многогранных людей: они непоследовательны, противоречивы, непостижимо своеобразны — как люди»31.
Подвижность, переменчивость людских побуждений в пьесах самого Стриндберга вдвойне детерминирована властью среды и судьбы. И хотя в его программной драме «Фрёкен Юлия» мы вовсе не видим среды как фона, как окружения, тем не менее в напряженном дуэте лакея Жана и графини Юлии тема плебса и тема аристократии, сталкиваясь, в конечном счете предопределяют весь ход конфликта. Давление Рока, потусторонней силы внешне в этой пьесе тоже никак не обозначено, однако совершенно очевидно, что ни Жан, ни Юлия над собой не властны. И среда и Рок спрятаны внутри персонажей, неспособных совладать ни с роковой чувственной страстью, влекущей их друг к другу, ни с социальной рознью, внушающей им взаимную ненависть. Неспособность человека проявить свободу воли доказана дважды, натуралистическим (от имени среды) и символистским (от имени судьбы) способами. Оба метода приведены к одному знаменателю и сходятся в трагическом финале.
Особняком в ряду авторов новой драмы стоит Метерлинк, пожалуй, единственный на Западе крупный писатель, которого можно назвать «чистым» символистом. В искусстве Метерлинка понятие среды замещено понятием Рока, персонажи Метерлинка, писал Б. Зингерман, «с подробностями дела не имеют и вещей не касаются», в его пьесах «трагизм повседневности» неизменно выступает в зашифрованной, «символически преображенной» форме32. Тоска, тревога, страх — вот эмоциональные доминанты метерлинковской драмы, где все построено, — согласно точной формуле П. Гайденко, — на «соотношении мира существующего с миром несуществующим» и где «ничто» — не просто «пустота», напротив, это реальность гораздо более важная, чем реальность налично существующего»33.
Примечательны слова Метерлинка: «Я восхищаюсь Отелло, но мне кажется, что он не живет величественной повседневной жизнью Гамлета, который имеет время жить, ибо бездействует»34. Содержательность жизни с точки зрения последовательного символиста обратно пропорциональна действенности героя, активность кажется ему симптомом бездуховности. Исследовательница творчества Метерлинка И. Шкунаева справедливо замечала, что «комплекс активности» ему подозрителен и его персонажам противопоказан»35. Сам же Метерлинк считал свои статичные «драмы ожидания» недоступными сцене и предназначал их для чтения, в лучшем случае, для театра марионеток, но никак не для живых актеров. Скоро выяснилось, однако, что некоторые люди театра думают иначе.
Первым отважился поставить Метерлинка Поль Фор, семнадцатилетний создатель парижского Художественного театра. Юный лицеист и начинающий поэт, Фор в противовес «всесильному Свободному театру Антуана» решил возродить «идеалистическое» искусство. «Конечно, — пояснял Фор впоследствии, — Свободный театр был необходим», борьба Антуана против бульварного театра Скриба и Лабиша вызывала сочувствие, а принципы «верного наблюдения» внушали доверие. Но, полагал Фор, к этим «великолепным принципам» надо «только добавить нечто иное», называемое «идеалом»36. Театру узнаваемой действительности Фор хотел противопоставить театр мечты, «храм идеи», искусству, сосредоточившему внимание на внешности явлений, — искусство, способное проникнуть в их сокровенную, скрытую сущность. Тот прозаический маленький человек, чье социальное поведение внимательно разглядывала сцена Антуана, на сцене Фора должен был вступить в прямое соприкосновение с высокой поэзией.
Сгруппировавшиеся вокруг Фора молодые энтузиасты давали свои спектакли в разных плохо и наспех оборудованных помещениях — своего зала у них не было. Сперва они исполняли Гюго и Шелли: от имени «идеала» представительствовали романтики. Но затем последовал крутой поворот руля. 21 мая 1891 г. Фор дал торжественный вечер в честь двух виднейших современных символистов, живописца Гогена и поэта Верлена. Вечер начался чтением стихов Ламартина, Гюго, Бодлера, Эдгара По, а завершился первой в истории и, что еще важнее, удачной постановкой метерлинковской драмы. Исполнялась «Непрошенная». С этого момента парижский Художественный театр присягнул на верность символизму, и вся его короткая история (с ноября 1890 г. до марта 1892 г.) протекала в поисках формы символистского спектакля.
Эфемерное предприятие Поля Фора поддержали лидеры французского символизма — Стефан Малларме, Жан Мореас, Анри де Ренье, Эмиль Верхарн, а оформителями спектаклей Художественного театра стали известные живописцы Одиллон Редон (который называл себя «художником-музыкантом»), Эмиль Бернар, Поль Серюзье. Особенно интенсивно сотрудничал с Фором Морис Дени, который радостно предвкушал скорое и «универсальное торжество фантазий эстетов над тупыми усилиями подражателей, всемирный триумф чувства красоты над ложью натуралистов»37. И хотя «всемирного триумфа» Поль Фор не стяжал, есть все же своя правда в словах французского театроведа Сильвана Домма о том, что подобные эксперименты, воодушевляемые «чистым энтузиазмом», нередко «знаменуют собой начало нового движения» и предвещают большие перемены38.
Ориентируясь на поэзию и замышляя «театр поэтов», Поль Фор говорил: «Я хочу предложить аудитории стихи, старые и новые, произнесение которых сопровождается музыкой. Исполнитель не будет персонажем, но только голосом; все живописные и музыкальные средства выразительности должны только аккомпанировать голосу, передавая такие эстетические оттенки эмоции, каких ни один актер не достигнет»39. Эта формула указывает главное направление исканий Фора, кстати сказать, выгодное для Метерлинка. Не персонаж, а голос, не действие, а слово — вот принцип, в соответствии с которым все постановки парижского Художественного театра тяготели к «театрализованному чтению».
Но «театр поэтов» был в то же время и «театром живописцев». Взамен декорации подражательной тут применялась декорация ассоциативная, аккомпанирующая голосу и способная дать пьесе или поэме цветовое созвучие, эмоциональную аналогию. Такие цели вполне соответствовали намерениям сплотившейся вокруг театра группы художников-«набистов» («наби» — на иврите «пророк»).
Желая вернуть изобразительному искусству локальный цвет, наивную простоту старинной фрески, витража, гобелена, «набисты» охотно пользовались неглубокой, придвинутой к рампе сценой, как своего рода рамой для их живописных панно. Иными словами, театральную декорацию заменила декоративная живопись. Цветовые сочетания претендовали выразить символику смыслов. Эту идею высказывал, в частности, Поль Гоген: «Цвет, имеющий такие же вибрации, как музыка, — писал он, — обладает способностью достигнуть того самого общего и, стало быть, самого смутного, что заложено в природе, — ее внутренней силы»40. Принцип «созвучия» тексту, обещая проникновение в тайную его сущность, одновременно предоставлял декоратору полную свободу действий, — потому-то у юного Фора охотно работали такие талантливые мастера.
Поэтические видения, возникавшие на подмостках Художественного театра, просвечивали сквозь четвертую стену, чаще всего задернутую прозрачной муслиновой или газовой завесой, а оттого особенно заметную. Ощущение ирреальности картин достигалось прежде всего их статичностью. На сцене царила тайна.
Завладев театром, живописцы остановили движение. Со сцены доносились монотонные голоса, жестикуляция была сомнамбулической. Иногда на авансцене Поль Фор помещал «чтицу в длинной голубой тунике», которая не только повторяла, словно эхо, реплики, но произносила и авторские ремарки, поясняя чувства, испытываемые персонажами, комментируя их входы и выходы. Голос чтицы звучал как ритмизированная проза, подобно белому стиху41.
Вся эта по-своему целостная система создавала впечатление некой завороженности, заколдованности, но в сокровенной глубине сценических картин чувствовалась тревога. Механизм обычного спектакля был отвергнут во имя интимного камерного представления, наполненного лиризмом. Это искусство адресовалось к нищей артистической элите Парижа, в нем причудливо переплетались мистическая одухотворенность и желчная ирония.
Многие мотивы парижского театра поэтов конца XIX в. неосознанно и отдаленно вторили искусству прерафаэлитов. Декораторы Художественного театра находили прообразы своих композиций во фресковой живописи, витражах и мозаиках позднего средневековья. Девушки и ангелы, которых рисовали на своих панно Морис Дени и Поль Серюзье, были похожи на ангелов и девушек Россетти. Англичане, которые видели постановки Фора, отнеслись к его опытам благосклонно. Как известно, Оскар Уайльд специально для Фора написал «Саломею».
Поставить трагедию Уайльда Фор не успел. Он вообще только отчасти осуществил свою обширную репертуарную программу: замышлявшиеся постановки Эсхила, Софокла, диалогов Платона, Сенеки, Данте, Макиавелли, Калидасы, Сервантеса, Кальдерона, Мильтона, Шиллера, Байрона так и не состоялись. Но вслед за Ламартином, Гюго, Шелли, Бодлером и По со сцены Художественного театра прозвучали и Малларме, и Рембо, и «Доктор Фаустус» Марло, и первая песнь «Илиады» Гомера. А кроме того были поставлены стилизованные в символистском духе вариации по мотивам нордического эпоса («Полуночное солнце» К. Мендеса) и старинного фарса («Спор сердца и живота» А. Мартена). Оригинальные пьесы драматургов-символистов, которые шли у Фора — «Девушка с отсеченными руками» Пьера Кийяра, «Теодат» Реми де Гурмона, «Свадьба сатаны» Жюля Буа, «Госпожа смерть» Рашильд, — лавировали между мистикой и эротикой, религиозной экзальтацией и грубым гиньолем.
Идеализм «театра поэтов» бесспорно был враждебен всякой вообще «прозе жизни», а в особенности буржуазному практицизму. Но идейная оппозиция господствующим умонастроениям не вывела искусство Художественного театра за эстетические пределы вкусов «belle époque». Любимым цветом парижского театра символистов был цвет золота. На золотом фоне гобелена размещал Морис Дени своих геральдических красных львов, оформляя мистерию Реми де Гурмона. На золотом панно рисовал скорбные ангельские лики Поль Серюзье, декорируя драму Пьера Кийяра. Правда, в «театре поэтов» любили золото тусклое, потемневшее, пытались противопоставить благочестивое золото веры наглому золоту богатства.
Отдав свою сцену во власть лирической поэзии, Поль Фор почти во всех случаях добивался впечатления таинственности. Его театр, пишет Сильванн Домм, «был одушевляем тайной слов и вещей. Все странное, все двойственное казалось ему проникающим в глубины истины. Не доверяя внешней видимости явлений, он с доверием воспринимал любую темноту смысла, надеялся, что она-то и ведет к сущности»42. Пристрастие к тайне и к «темноте» было выигрышно для постановок Метерлинка, но даже такие поэты, как Бодлер и Рембо, многое теряли в интерпретациях Фора. Бодлеровская ненависть к вселенской пошлости будто притормаживалась, умерялась. Ярое неистовство ритмики «Пьяного корабля» Рембо гасло в монотонности декламации и статике постановки.
Последней удачей Художественного театра явились «Слепые» Метерлинка. Но за «Слепыми» последовала постановка «Песни песней» П. Руанара по мотивам библейского эпоса. В этом спектакле Поль Фор, как он сам потом не без юмора вспоминал, хотел «в один вечер дать удовлетворение сразу всем чувствам»43, в том числе и обонянию. Пульверизаторы наполняли помещение театра разными запахами, причем одновременно менялось освещение: алый цвет согласовывался с волнами ладана, оранжевый — с ароматом фиалок, зеленый — с запахом лилий, а голубой — акаций. Во время представления критик Франсиск Сарсэ демонстративно чихал и громко хохотал. Часть зрителей пришла в ярость от новшеств Фора, другие были в восторге, взаимные их препирательства завершились форменной дракой в партере.
Дальнейшие работы Поля Фора никто финансировать не пожелал, а о прибыльности его предприятия не могло быть и речи. Дело пришлось свернуть.
Правда, спустя год после закрытия Художественного театра Фор получил новую пьесу Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» и попытался было возобновить деятельность своей труппы. Но это ему не удалось. Репетиции драмы Метерлинка довел до конца Орельен Люнье-По, который начинал как актер Антуана, а в Художественном театре исполнил ряд заметных ролей и впервые попробовал свои силы в режиссуре. Люнье-По был, в сравнении с Фором, человеком неизмеримо более практичным и предприимчивым. В 1893 г. он открыл в Париже театр «Творчество», успешно функционировавший под его руководством более трех десятилетий. К открытию театра и была приурочена премьера «Пелеаса и Мелисанды».
Декларации Люнье-По возвещали о готовности идти по стопам Поля Фора и сделать театр «интеллектуальным оазисом» в парижской «духовной пустыне». В одном из первых же интервью он заявил, что его главная задача — «построить рядом с современным театром, полностью погруженным в социальную и моральную проблематику и жаждущим форм фиксированного правдоподобия, иной, полуфеерический, воодушевляемый поэзией театр фантазии и сновидений»44. Спектакль «Пелеас и Мелисанда» эти обещания подтвердил. По совету Метерлинка (который присылал Люнье-По подробные наставления), зрелище было стилизовано в духе полотен Ганса Мемлинга и выдержано в глубоких сине-лиловых и оранжевых тонах. Рампу Люнье-По погасил. Он освещал глухо декламировавших актеров лучами прожекторов, как бы вырывая их фигуры из мглы. Анри де Ренье восторгался «красиво стилизованными декорациями леса, дворцового зала, скалистого морского берега, красивыми фигурами актеров в костюмах из шерсти и шелка», тем, что все образы «очерчены не столько линией рисунка, сколько пятнами цвета», и особо отмечал, что исполнители отнеслись к своим задачам чрезвычайно ответственно. «В манерах персонажей есть что-то детское и в то же время тяжкое; они ведут себя как люди, которые в любое мгновенье могут услышать голос своей судьбы»45.
Постановка Люнье-По была очень обдуманной и основательной. Французские исследователи установили, что премьеру «Пелеаса и Мелисанды» видел Станиславский и высказали убедительное предположение, что с этого момента русского режиссера заинтересовал Метерлинк46.
Люнье-По не обнаруживал никакой склонности к «театрализированному чтению» стихотворений или поэм. В репертуаре театра «Творчество» были только настоящие, «нормальные» пьесы, да и вся организация дела вовсе не имела того оттенка непринужденной импровизации, который ощущался в работах Фора. Поначалу Люнье-По отдавал предпочтение Ибсену и Гауптману, причем тут обнаружилась характерная избирательность: те пьесы Ибсена, которые ставил Антуан (например, «Привидения», «Дикую утку»)
не ставил Люнье-По, зато у него шли «Росмерсхольм», «Строитель Сольнес», «Бранд», «Маленький Эйольф». Если Антуан давал «Ткачи» и «Ганнеле» Гауптмана, то Люнье-По выбирал другие его пьесы — «Одинокие», «Потонувший колокол». Точно так же Антуан и Люнье-По поделили между собой Стриндберга: первый взял «Фрекен Юлию» и «Пляску смерти», второй — «Кредиторы» и «Отца».
Диапазон театра «Творчество» неуклонно расширялся, Люнье-По знакомил парижан с Уайльдом («Саломея») и Шницлером («Последние маски»), Гофмансталем («Электра») и Д'Аннунцио («Джоконда»), ставил «Сакунталу» Калидасы и «Спасенную Венецию» Отвея, из русской классики выбрал «Ревизор», из современной русской драмы — «На дне». О предпринятой Люнье-По вслед за Поулом попытке воскресить елизаветинские формы спектакля и поставить на цирковой арене «Мера за меру» Шекспира мы уже упоминали.
Нередко на сцене театра «Творчество» появлялись чувствительные мелодрамы и волшебные феерии — и те и другие с обязательной символистской окраской. И, конечно, от юношеского максимализма Фора Люнье-По отошел далеко. Считая деятельность Люнье-По эклектичной и беспорядочной, Сильвэн Домм решительно заявил, что спектакли театра «Творчество» вообще «не представляют интереса для истории режиссуры»47.
Другие театроведы не столь категоричны и не забывают, что Люнье-По принадлежит честь первой постановки «Короля Убю» Альфреда Жари (1896), а также сценического открытия драматургии Поля Клоделя, что у Люнье-По работали такие художники, как Анри Тулуз-Лотрек и Эдвард Мунк, что в спектаклях театра «Творчество» выступала, гастролируя в Париже, Элеонора Дузе и т. д. Мы, со своей стороны, должны добавить, что без энергичной и продуктивной работы Люнье-По вся театральная панорама Европы конца XIX — начала XX в. была бы гораздо менее содержательной. Эдвард Гордон Крэг застал искусство сцены в период живописного противоборства новаторов и архаистов, целеустремленных фанатиков и практичных эклектиков, людей дела и людей идеала.
На исходе прошлого века Крэгу исполнилось двадцать восемь лет, и в 1900 г. ему предстояло произнести свое первое новое слово в искусстве.
Сын Эллен Терри***, Гордон Крэг вышел на подмостки пятилетним ребенком, а в 1885 г., тринадцати лет, в гастрольном спектакле Терри в Чикаго исполнял уже роль «со словами» в пьесе Уайльса «Юджин Эрам». В 1889 г. состоялся дебют семнадцатилетнего юноши Крэга в Лицеуме: он играл Артура Сент-Валери в мелодраме Уотса Филлипса «Мертвое сердце». Дебют прошел успешно, да и все дальнейшие восемь лет (с двухлетним перерывом в 1894—1895 гг., когда Лицеум гастролировал в Америке, а Крэг оставался в Англии) актерская работа в театре Ирвинга протекала вполне благополучно. На заметные роли в Лицеуме Крэг рассчитывать не мог, зато Ирвинг не препятствовал его выступлениям на стороне. И молодой актер часто, особенно в летнее время, подвизался в различных провинциальных труппах. В Лицеуме он довольствовался относительно малым: в 1891 — вестник и ночной сторож в «Много шума из ничего», в 1892 — Кромвель в «Генрихе VIII», Освальд в «Короле Лире», в 1893 — Лоренцо в «Венецианском купце», в 1896 — Арвирагас в «Цимбелине».
Талант и прекрасные внешние данные молодого артиста раньше других оценила по достоинству Сара Торн, в чьей труппе Крэг в 1892 г. сыграл сперва Форда в «Виндзорских проказницах», а затем Петруччо в «Укрощении строптивой». Два года спустя в маленькой «Шекспировской труппе» У.С. Харди, кочевавшей по провинции, Крэг играл уже и Ричмонда в «Ричарде III», и Кассио в «Отелло», а затем Ромео и в 1894 г. — Гамлета. В 1895 г. для своего бенефиса он выбрал Гамлета. Генри Ирвинг в знак благосклонности даже прислал ему один из своих гамлетовских костюмов с тяжелым, украшенным драгоценностями кожаным поясом, а также старинный кинжал в красивых ножнах.
В 1896 г. Крэг вновь вступил в труппу Сары Торн. Теперь уже роли Петруччо, Ромео, Гамлета, а сверх того и роль Макбета прочно закрепились в его репертуаре. В 1896 г. его бенефис проходил в Чатэме, неподалеку от Лондона, на этот раз для бенефиса избран был «Макбет».
Молодой трагик был очень красив и пользовался успехом, его начали замечать лондонские критики. Видимо, это обеспокоило Ирвинга, он даже высказался против возвращения Крэга в Лицеум и заявил Терри: «Нет, лучше ему не возвращаться... По крайней мере некоторое время»48. Однако через несколько месяцев Терри добилась своего, а Крэг, дабы внушить Ирвингу, что конкурировать с ним не собирается, взял себе роль старика Эдуарда в «Ричарде III».
Вся хронология, тут вкратце изложенная, почти наглухо замкнута в пределах шекспировского репертуара, и кажется, что перед нами — весьма целеустремленное начало артистической биографии. На самом деле все выглядело иначе, и молодые годы Крэга вовсе не были отданы одним только шекспировским ролям.
Во-первых, он играл охотно, часто, с большим успехом разнообразные мелодрамы: Каварадосси в «Тоске» Викторьена Сарду, Грея в «Новой Магдалине» Уилки Коллинза, Армана Дюваля в «Даме с камелиями» Александра Дюма-сына и проч.
Во-вторых, уже в 1893 г. Крэг пробовал режиссировать, причем в качестве постановщика к Шекспиру пока не прикасался. Он ставил «Любовью не шутят» Мюссе, вышеупомянутую «Новую Магдалину» Коллинза, пьесу С. Кауарта «Франсуа Вийон, поэт и убийца» (где сам выступил в роли Вийона). Дени Бабле охарактеризовал его первые режиссерские опыты как вполне традиционные: Крэг пока что оставался приверженцем добродетельного историзма «в мейнингенском духе»49.
В-третьих, вся эта разнообразная деятельность еще не означала, что искусство молодого актера и режиссера полностью выражает его сокровенные побуждения и эстетические идеалы. Скорее наоборот: уже предчувствуя, что старые формы должны быть отвергнуты, он пока мирился с ними, ибо хотел овладеть профессиональными актерскими и режиссерскими навыками, накопить необходимый опыт. Но чем больше узнавал, тем острее становилось чувство неудовлетворенности. Успехи не вскружили голову молодого артиста. Это обстоятельство хотелось бы специально отметить.
Уникальная особенность Крэга как человека театра — а он был человеком театра от рожденья и по призванию — состоит в том, что, в отличие от подавляющего большинства служителей Мельпомены, Крэг всю жизнь оставался равнодушен к овациям, букетам, восторженным рецензиям или к газетной брани. Он признавал только одну форму успеха — успех у самого себя, принимал в расчет лишь собственную удовлетворенность или неудовлетворенность достигнутым.
Напрашивается мысль, что Крэг расстался с Лицеумом, ибо знал: на этой сцене ни Гамлета, ни Макбета ему не сыграть, Ирвинг ведь вообще никогда и никому ни грана своей славы не уступал. Но Крэг покидал не только Лицеум, и его слова, что он, мол, «никогда вторым Ирвингом не станет»50, имели другое значение. Двадцатипятилетний актер одним резким движением обрывал нить счастливо начавшейся актерской биографии. Он решил впредь вообще никогда и нигде не играть и до конца дней остался верен этому решению.
Этот мужественный и безрассудный, казалось, шаг предопределила вся интеллектуальная жизнь молодого человека, которая долго шла как бы в параллель с вереницей сменявших одна другую ролей. Со стороны казалось, что он полностью поглощен обычной игрой театральных интересов, и потому даже Эллен Терри не могла понять поступок собственного сына. «Мне было очень горько, — писала Терри в книге воспоминаний, — потерять в своем сыне актера. Я не знаю никого, кто обладал бы таким природным актерским даром. Он совершенно незаметно сразу постигал все тонкости актерской техники, над которыми многим из нас приходится работать годами»51. Восхищаясь легкостью, с какой ее сын овладевал актерским мастерством, Терри оставалась равнодушна к многим социальным и эстетическим коллизиям, волновавшим молодого человека. То, что радовало мать, не утоляло духовный голод сына. Его интересы простирались за пределы мечтаний об актерской славе, а его вкусы с ранних лет не очень-то совпадали со вкусами, господствовавшими в театральных кругах. Первые пристрастия юноши — любовь к поэзии Шелли, живописи Россетти и увлечение эстетическими концепциями Рескина и Патера были унаследованы от отца. Правда, Эдвард Годвин умер, когда Крэгу было только четырнадцать лет, да и в детстве сын редко видел отца. Тем не менее отцовские взгляды и мнения много для него значили. Отец был его кумиром. Крэг знал, что Эллен Терри, обдумывая костюмы или эскизы декораций к предстоящей постановке, часто прибегала к советам Годвина, знал, что прославленный Генри Ирвинг считал Годвина самым авторитетным консультантом. Много лет спустя, размышляя об артистической судьбе матери, Гордон Крэг задавался вопросом: что было бы, если бы Терри «разогнала весь этот рой мух, москитов и эгоистов» (т. е. декораторов Ирвинга) и полностью вверилась Годвину? Не должен ли был именно Годвин указать путь, «по которому они могли бы шагать вместе?» Ответ следовал твердый: «Я в этом не сомневаюсь ни минуты»52.
Не кто иной, как Эдвард Годвин перед смертью, в 1886 г., двенадцатью годами ранее, чем Люнье-По, и почти на четверть века раньше Рейнхардта впервые предпринял опыт постановки театрального спектакля — «Елены Троянской» Джона Тодхантера — на цирковой арене. То была весьма решительная попытка вырваться за пределы ренессансной сцены и возвратиться к формам античного театра. Конечно, Крэг об этой попытке слышал и впоследствии высоко ее оценил. То обстоятельство, что Годвин был одним из друзей Уайльда, чьи дерзкие парадоксы занимали весь тогдашний светский и артистический Лондон, бесспорно возвышало отца в глазах сына. Существенно и то, что Эллен Терри, Эдвард Годвин и Генри Ирвинг, которым принадлежали важные, но разные места в духовной жизни юного Крэга, все трое сходились в одном — в преклонении перед Шекспиром.
Среди книг, которые сопутствовали интеллектуальному развитию Крэга, — тома Монтеня, Гете, Толстого, произведения Блейка и Гейне. Иллюстрированный журнал английских символистов «Желтая книга», где Уолтер Патер печатал теоретические статьи, Оскар Уайльд — рассказы и эссе, а Обри Бердсли помещал свои рисунки, выпускался с 1894 по 1897 г., и молодой артист был не просто читателем, но горячим поклонником этого издания. Среди близких друзей его юности — художники Уильям Николсон и Джеймс Прайд, оба — одаренные графики, талантливые карикатуристы, последователи Бердсли и Тулуз-Лотрека, словом — молодые люди отчетливо антивикторианских взглядов. Сам Крэг с юных лет много и увлеченно рисовал. Прайду нравились его рисунки, особенно шаржи, однако мысль стать профессиональным художником вряд ли когда-либо посещала Крэга. У него было много дарований, но он пока что не нашел место в жизни. Хотя он играл в театре, исполнил примерно 40 ролей, хотя он рисовал, музицировал и пел под гитару стихи Вийона и Гейне, а также уличные песенки на сленге, понятном только коренным лондонским обитателям из низов общества (так называемым «кокни»), — и все-таки призвание предугадывалось иное.
Эстетические воззрения многообразно одаренного сына Эллен Терри быстро отдалялись от викторианских норм. В моду входил Киплинг, чьи сборники «Песни казармы» (1892) и «Семь якорей» (1896) пользовались огромной популярностью, а Крэга увлекал американец Уолт Уитмен, которого в Англии прославлял Суинберн. Любовь к Россетти сменилась любовью к американскому живописцу Джеймсу Уистлеру. Внутреннее сопротивление господствующим отечественным вкусам спонтанно проступало и в раннем крэговском творчестве. Противоречия оставались малозаметными, когда Крэг играл роль Франсуа Вийона или пел песни на слова Вийона: это воспринималось как нечто новое, но «другое». В шекспировских ролях, особенно таких, как Гамлет, противоречия тотчас выступали наружу, хотя Крэг вовсе не стремился эпатировать публику.
Дени Бабле писал: «Как все молодые актеры Лицеума, Крэг мечтал стать новым Ирвингом»53. Надо полагать, дело все же обстояло много сложнее. Вполне отдавая себе отчет в том, сколь изощренным, гибким и крепким мастерством владеет Ирвинг, Крэг уже в роли Гамлета не старался ему подражать. Он с благодарностью принял подаренный Ирвингом костюм принца датского, но в этом костюме на протяжении трех лет, с 1894 по 1897 г., расхаживал иной Гамлет. Восхищение Ирвингом и полемика с ним сливались воедино. И дело было не в «недостатках» или достоинствах игры Ирвинга — и те и другие Крэг видел ясно. Дело было в том, что климат времени резко переменился.
В 1913 г. Крэг беседовал об Ирвинге с Томмазо Сальвини. Итальянский трагик высказал предположение, что Ирвинг был прекрасным театральным педагогом. Крэг ответил: «Нет, мы, молодые люди, ценили его прежде всего как актера». По его словам, Ирвинг «тормозил самостоятельность» молодых артистов, требуя, чтобы молодые старались ему подражать. Сальвини, вспоминая Ирвинга — Гамлета, сухо произнес: «Это не серьезно». Крэг процитировал приговор Сальвини без возражений. Ему самому в 1913 г. тоже казалось, что «это не серьезно»54.
В 1930 г., в книге об Ирвинге, тщательно анализируя его игру, Крэг заявил: «Более великого актера, чем Ирвинг, я никогда не знал. ...Всегда спрашивают, был ли он естественным? Да, был естественным, как естественна молния... Был ли он искусственным? Да, таким же экзотичным и величавым, как орхидея или кактус»55.
Последнее, датируемое уже 1949 г., высказывание Крэга об Ирвинге звучит так: «Он всегда любил точность на сцене. Талант, даже гениальность, я думаю, имели для него менее важное значение, нежели правильность речи и движения...». «Правильность» в устах Крэга — не комплимент. Но и эта формулировка не исчерпывает суть идейного и эстетического противоречия между учителем и учеником. Сценический герой Ирвинга воспринимался как воплощение художественного и нравственного идеала эпохи. Однако и этот идеал и эту эпоху молодежь на рубеже XX в. уже отказывалась принимать всерьез. Виртуозность ирвинговского мастерства Крэг под вопрос не ставил. Сомнения вызывало не мастерство Ирвинга, а стиль Ирвинга. Говоря о поколении «английских невозможных», о молодежи конца 90-х годов, т. е. и о себе, Крэг вспоминал: «Возмутители спокойствия были нераскаявшимися независимыми: настоящие мятежники, они были рождены для бунта... Мы, английские возмутители, были из того клана, к которому ведь принадлежал и Гамлет». А Гамлет, по словам Крэга, в отличие от Клавдия, «первоклассного человека действия, делового человека», тоже один из «невозможных» юнцов. «Мы, Невозможные 1900 года, были очень похожи на принца датского прежде всего потому, что мир, который нас окружал, считал нас, тогдашнюю английскую молодежь, просто-напросто слабовольными бездельниками. К нам относились так, как Эльсинор относился к Гамлету, и поступали с нами, как в Эльсиноре поступали с Гамлетом»56.
Коллизия конца 90-х — начала 900-х годов охарактеризована тут достаточно выразительно, и феномен Гамлета упомянут вовремя. «Невозможные» юнцы шли войной против старших, их трезвому оптимизму противопоставляя тревожный пессимизм, их «хорошему тону» — «дурной тон», их практической хватке — возвышенный и непрактичный идеализм. На смену поколению прагматиков, привыкших побеждать, захватывать трофеи и повелевать, выступало поколение, не дорожившее ни почестями, ни славой, ни материальными ценностями, а только лишь ценностями высшими — духовными, метафизическими.
В Гамлете, каким сыграл его Крэг, эта новая позиция «невозможных» если и не была твердо заявлена, то все же чувствовалась, отзывалась.
Крэг несомненно видел ноябрьский номер журнала «Пчела» за 1891 г., на фронтисписе которого был помещен карандашный рисунок Обри Бердсли «Гамлет идет за тенью отца». Сам художник, комментируя эту свою работу, писал одному из приятелей: «ошеломляющий рисунок, скажу я вам»57, и был прав, ибо он, к изумлению современников, изобразил худую, тщедушную фигуру длинноволосого юноши, чье тело от шеи до колен туго обмотано — словно забинтовано — узким шарфом. Гамлет зябко пробирается сквозь голый, безлиственный лес. Перед ним — мрачные древесные стволы, извивающиеся прутья кустов, тянущиеся кверху ветки. Напряженным, едва ли не безумным взглядом Гамлет всматривается в глубь чащи. Рука протянута вперед, а ноги как бы подломлены в коленях и движутся медленно, осторожно. Во всей вертикально развернутой композиции — странное, но проведенное с обдуманной последовательностью сочетание смертельного страха и неуклонного, независимого от собственной воли юноши, тяготения к неведомой влекущей цели. Холод, предчувствие гибели, оцепенение ужаса, но следующий шаг неизбежен.
Современный биограф Бердсли ищет (и напрасно) в этом рисунке «внутреннюю связь» между шекспировской трагедией и «Привидениями» Ибсена, постановка которых в Англии «тогда многих скандализировала»58. Вернее было бы сказать, что Гамлет, каким увидел его Бердсли, напоминает метерлинковского героя, подвластного таинственной силе рока, скованного страхом перед нею. По-метерлинковски устранены все приметы какого бы то ни было исторически конкретного времени, по-метерлинковски замедлено действие.
Вполне возможно, что Бердсли, когда он рисовал своего Гамлета, о Метерлинке и понятия не имел (к этому времени была опубликована одна только «Принцесса Мален»). Тем более примечательно сходство вариации Бердсли на шекспировскую тему с характерными мотивами метерлинковской драмы.
Бердсли, однако, предложил внетеатральное, независимое от сценических условий понимание Гамлета, и даже если его рисунок заинтриговал Крэга, все равно сыграть такого Гамлета он при всем желании не мог бы. Но с другой стороны, и от ирвинговской концепции роли Крэг неуклонно отдалялся. В 1897 г. Крэг выступал в роли Гамлета уже не в провинции, а в столице, в театре «Олимпик», и на его спектаклях присутствовал «весь Лондон». Один из современников, критик Макс Бирбом, зафиксировал свои впечатления от игры Крэга так: «Игра пиано — быстрый скачок вверх — волосы откинуты назад — перетекание в плащ — германский студент — Гейдельберг — ожидание удара шпаги — неземной — молодой Бахус — его любовь почти мифологическая — чистый тип артиста — гений»59.
Обратим внимание на смену темпов и ритмов, которую уловил Макс Бирбом и на «перетекание в плащ», позволяющее угадать некую метерлинковскую смутность. Судя по тому, как автор перебирает одно определение за другим, можно предположить, что новая, собственно крэговская тема еще не вполне явственно обозначилась. Дошедшие до нас отклики рецензентов и мемуаристов скупы и тоже противоречивы. Если один указывал на «интеллигентность, молодость, редкую способность к импровизации», то другой упрекал артиста в «излишнем осовременивании» роли, а третий, наоборот, констатировал «сильное влияние сэра Генри Ирвинга»60. Несколько более уверенно мы можем судить о том, каков был этот Гамлет на основании сохранившегося (хотя и незавершенного) портрета кисти Уильяма Ротенштейна и единственной, но весьма выразительной фотографии. Перед нами — очень красивый, печальный и мечтательный юноша, не столько принц, сколько поэт. Шея беззащитно обнажена, умные глаза полны скорби, весь облик дышит чуточку капризной изнеженностью. Это ни в коем случае не герой, вообще не человек действия. Самый его аристократизм — с отпечатком какой-то непринужденной артистичности. Его слабость — нескрываема, более того, можно сказать, что этот Гамлет гордится собственной, несколько даже вызывающей слабостью. На нас чуть свысока глядит молодой лондонский денди.
Дендизм — вот форма поведения и вот социальная позиция, которую избрали для себя «невозможные» молодые люди. На закате XIX в. в английской жизни произошел внезапный излом, в результате которого была поставлена под сомнение святая святых всего столетия: культ «истинного британца», образ «настоящего джентльмена». Еще вчера мужественных и безупречных британских джентльменов охотно ставили в пример всему человечеству, безнадежно далекому от их совершенства, еще вчера как бы от их лица выходили на подмостки Лицеума шекспировские герои Генри Ирвинга. Изданная в 1861 г. книга Барбе д'Оревильи «Дендизм и Джордж Бреммель» произвела сенсацию. Полузабытая фигура лорда Бреммеля, знаменитого щеголя и беспечного фата, «короля моды» начала XIX в., вдруг заново обрела неотразимое обаяние. Бреммель стал кумиром для целого поколения новоиспеченных английских денди. Тои задавали, конечно, Уайльд и Бердсли, молодежь равнялась на них, их стремилась превзойти в эксцентричности, экстравагантности.
Сами же они, прославленные островные оригиналы Уайльд и Бердсли, в свою очередь испытали огромное влияние парижанина Бодлера. Ибо Шарль Бодлер первый сумел превратить небрежную позу человека, попирающего светские условности, в независимую позицию исключительной личности, которая по праву таланта осмелилась бросить вызов всему деловому, прозаическому современному миру. Эксцентричность манеры обрела в короткой жизни «проклятого поэта» неистовость самосожжения. Англичане готовы были подражать Бреммелю, ибо бреммелевский дендизм «издевается над правилами и все же еще их уважает»61. Для Бодлера прообразом истинного денди был не Бреммель, а Байрон, который «правила» нисколько не уважал. Весь стиль поведения Бодлера, его костюм, дерзость слова, все это, вплоть до готовности к скандалу и до права опьяняться наркотиками, имело одну цель: противопоставить полнейшую свободу художника социальному регламенту, обязательному для всех, но не для него.
Бодлер и те, кто пришел вслед за ним — Верлен, Рембо, первые символисты, утвердили принцип экстравагантности поведения как особую форму существования поэта в прозаическом мире. Специфически английский вариант этой позиции выглядел менее острым: Лондон не Париж. Все же и в Лондоне дендизм как явление социальное плотно смыкался с символизмом как концепцией эстетической. Символистская идея самоценности искусства неизбежно влекла за собой презрительное отношение к принятым нравственным нормам и в викторианском чопорно добродетельном обществе утверждала себя двояко: и как определенный эксцентрический образ жизни и как определенный, капризно утонченный художественный стиль.
По словам Уайльда, «то, что обозначили как Грех, есть существенный элемент прогресса. Без него мир начал бы загнивать, дряхлеть, обесцвечиваться. Благодаря своей ненасытимости Грех обогащает человеческий опыт». А «само существование такого человеческого качества, как совесть, — считал Уайльд, — ...указывает только на несовершенство нашего развития». Что же касается искусства, то «все искусство аморально», и как раз поэтому оно — выше жизни: «через Искусство и только через Искусство способны мы постичь, в чем наше совершенство»62.
Впоследствии все исследователи творчества Уайльда констатировали антивикторианский дух его произведений. Робер Мерль, например, писал: «Семья, спорт, религия, простота жизни, мужественность характера, все табу национального идеализма им явно или неявно отрицались»63. Это верно. Но верно и то, что характерная пышность антуража, словесного и декоративного, выдавала зависимость Уайльда от викторианского мироощущения, над которым он глумился. «Ум, — писал Д. Шестаков, — вступает с роскошью в своего рода поединок. Это роскошный ум — и остроумная роскошь»64.
Уайльд, кстати сказать, поклонялся Терри, посвящал ей сонеты, в которых славил «златые кудри, алые уста» и «золотые наряды» актрисы. Ему импонировало богатство постановок Лицеума. В уайльдовской драматургии ирвинговский стиль вспенивался волнами умопомрачительной роскоши, любование богатством зрелища доводилось до чувственного изнеможения. Самый наглядный тому пример — знаменитая трагедия «Саломея» (1892): в ней сформулирована одна из коронных символистских тем эстетического равенства любовной страсти и смерти.
Сомерсет Моэм, почти ровесник Крэга (он был на два года младше), вспоминал: «Я опьянялся изысканной красочностью слов-самоцветов, которыми усыпаны страницы «Саломеи». Ужаснувшись бедности своего словаря, я ходил с карандашом и бумагой в библиотеку Британского музея и записывал названия редких драгоценных камней, запоминал оттенки старинных византийских эмалей, чувственное прикосновение тканей, а потом выдумывал замысловатые фразы, чтобы употребить эти слова»65. Замысловатость, изощренность, пряность и томность были в моде. Они господствовали и в лучших комедиях Уайльда, где самые язвительные парадоксы подавались как изысканные яства на званом обеде.
Английский символизм (в отличие хотя бы от символизма французского) ни пафосом духовного самоуглубления, ни особой интеллектуальной энергией не обладал. На первый план здесь, на островах выступали гедонистические мотивы, а социальная критика обычно ограничивалась изящными остротами и словесными выпадами против пуританского ханжества. Английские «цветы зла» издавали сильный, но не слишком мрачный, скорее пикантный запах. Самый талантливый английский художник этой поры Обри Бердсли грациозно балансировал между мечтательной прелестью театральной пасторали и насмешливым демонизмом в уайльдовском духе, между шаловливой виньеткой и броской, ироничной карикатурой. В его графике ощущалась явная зависимость от художников стиля рококо: та же легкая маскарадная фривольность, такая же меланхоличность и склонность к фантазии. (Кстати сказать, именно близость Бердсли к Ватто и Фрагонару особенно пленяла русских мастеров «Мира искусств» — отчасти А. Бенуа, несомненно К. Сомова). Молодому Крэгу, который был избран вслед за Николсоном и Прайдом, в «Общество новых английских художников», поклонников и последователей Бердсли, нравились кружево его льющихся линий, его манера пользоваться контрастами между нетронутой белизной листа и прихотливой игрой густых черных пятен.
Но с точки зрения Крэга, смолоду впитавшего в себя энергию шекспировской образности, все то, что делали в современном искусстве и Уайльд, и Бердсли, и далекий от символизма Шоу, было все же, по-видимому, недостаточно значительно. Интеллектуальные парадоксы, независимо от того, какой цели они служили, — умеренно острой социальной критике в устах Шоу или гедонистическому «сатанизму» в устах Уайльда, — казались Крэгу слишком легковесными. Годы, проведенные в стенах Лицеума, принесли Крэгу не только большой актерский опыт, они внушили сыну Эллен Терри, поклоннику и пока еще молчаливому оппоненту Ирвинга, чрезвычайно серьезное, глубоко ответственное отношение к искусству сцены. В этом смысле воздействие Ирвинга на молодого Крэга недооценивать нельзя. При всем творческом эгоцентризме Ирвинга (его артистический эгоцентризм, его чуть ли не маниакальную сосредоточенность в кругу собственной сценической жизни отмечали все, кто хорошо Ирвинга знал), великий актер работал, не щадя ни себя, ни других. Роль была для Ирвинга делом не шуточным, новая шекспировская роль — важнейшим событием, шекспировский спектакль — свершением, от которого зависела вся ирвинговская судьба.
Чувствуя себя ближе к «невозможным», нежели к первому актеру империи, ближе к свободному нигилизму новых «денди», нежели к авторитету и достоинству старых «джентльменов», Крэг, однако, не мог по-дендистски относиться к миссии художника. И в искусстве Уайльда, Бердсли и Шоу, и в их социальном поведении сквозил оттенок ни к чему не обязывающей игры с огнем. Крэг такой игрой удовлетвориться не мог.
Покинув сцену в 1897 г., Крэг вполне готов был повторить сумрачные слова чеховского Треплева: «Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». С одной только очень существенной оговоркой: скоро выяснилось, что ему потребны «новые формы», способные вместить и выразить грандиозное содержание.
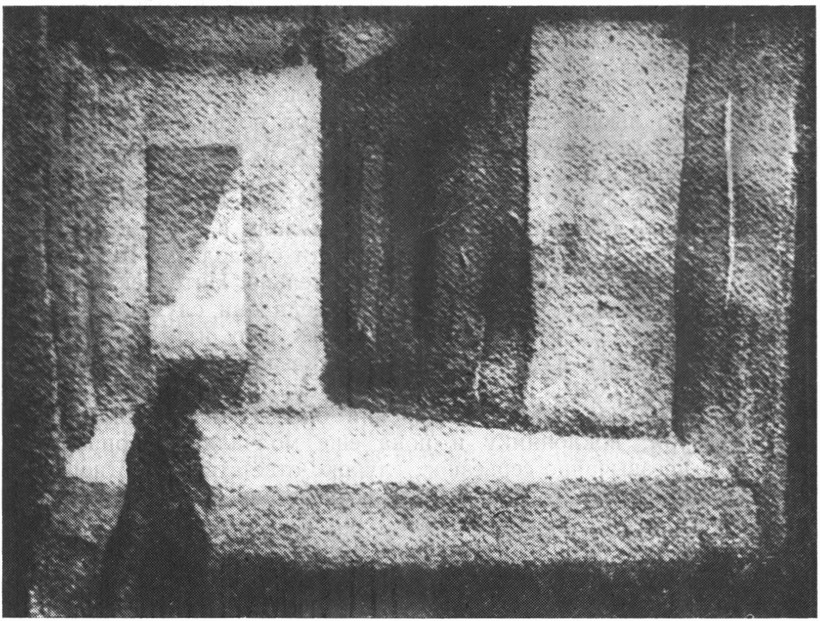
«Гамлет», акт III, сц. 4, 1899
В 1899 г. Крэг, еще не имея в виду какой-либо конкретной театральной работы, отнюдь не подготавливая определенный спектакль, без всякой практической цели, просто так, «для себя» сделал первый из дошедших до нас эскизов к «Гамлету». Этот эскиз можно и должно рассматривать как своего рода эпиграф ко всему дальнейшему творчеству Крэга, ко всей его жизни в искусстве. Крэг предложил тут совершенно неожиданное, беспрецедентное решение сцены в комнате королевы («Гамлет», акт III, сцена 4).
Никакой комнаты на эскизе нет. Массивное, напоминающее каменный лабиринт нагромождение толстых стен. Столь же массивная, возвышающаяся над линией рампы каменная горизонталь пола. Доминируют прямые линии и углы. Впечатление тюремной камеры или какого-то мрачного подземелья. Тут погибает душа Гамлета. Из глубины таких каменных глыб мог явиться Гамлету Призрак. Диалог в этой сцене один из ключевых для крэговского понимания Шекспира:
Королева.С кем говоришь ты?
Гамлет.
Как, вам не видать?
Королева.
Нет. Ничего. Лишь то, что пред глазами.
Гамлет.
И не слыхать?
Королева.
Лишь наши голоса.
Гамлет.
Да вот же он! Туда, туда, туда взгляните...
Гамлет видит то, чего не видит слепое, обыденное сознание его матери. Фигура Гамлета помещена Крэгом на переднем плане. Гамлет находится между воображаемой публикой и грузным каменным мешком, воздвигнутым на подмостках. Самое существенное тут, быть может, — странное предощущение подвижности, которое угадывается в эскизе. В каменных вертикалях и каменных горизонталях нет покоя. Они тяжеловесны, но могут вдруг стронуться с места, заколебаться, смять и раздавить человека. В их грубой шершавости, в их допотопной древности затаена угроза. Сценическое пространство воспринято и явлено как пространство трагедийное, в нем зримо воплощены философские категории бесконечности и вечности, ибо эти стены существовали всегда и уходят в никуда. Человеческая фигура поставлена вне сценической среды потому, что эта среда, такая среда, способна человеческую фигуру поглотить, уничтожить.
Мироощущение Крэга, выраженное в эскизе к «Гамлету» 1899 г., — мироощущение трагического поэта. Разглядывая набросок, начинающий большую и растянувшуюся на целое десятилетие серию крэговских эскизов к «Гамлету», понимаешь, что человек, сумевший так увидеть Шекспира, неизбежно должен был проложить собственный, новый путь в искусстве.
Основные эстетические концепции, среди которых Крэгу предстояло сориентироваться и одну из которых ему, казалось бы, надлежит избрать, к концу XIX века вполне сложились. Новая драма, как и сопутствовавшая ей система театральной образности, находилась в стадии расцвета. Натурализму и до болезненности утонченному психологизму резко противостояли символистская поэзия и символистская драма, которые взамен житейской конкретности предлагали пафос широких обобщений, а взамен жгучего интереса к современной социальной действительности — порыв к ирреальному, к силам, ни человеку, ни обществу неподвластным. Наряду с этими двумя противоборствующими течениями продолжала функционировать и несколько уже увядшая викторианская традиция — она по-прежнему искала себе опору в шекспировском репертуаре. Такая приверженность к классике на общем театральном фоне конца XIX — начала XX в. выглядела едва ли не анахронизмом. Ибо разлад между классикой и современностью стал своего рода знамением дня. Некоторые режиссеры-новаторы либо вовсе избегали классики, либо, соприкасаясь с нею, терпели поражение.
Понятия правды и красоты друг от друга отдалились и отделились, стали антагонистичны. Последователи Ирвинга (прежде всего Бирбом Три), блуждая где-то на полпути от романтизма к психологической достоверности отдельных характеров, чаще всего переводили высокую трагедию в регистр исторической мелодрамы.
Особенность позиции Крэга — позиции пока не объявленной — состояла в том, что в его мироощущении трагедийность Шекспира смыкалась с предощущаемой трагедийностью надвигавшегося XX века. Понятия красоты и правды трагедии виделись ему в нерасторжимом единстве. Как выразить это мироощущение, Крэг покуда не знал. Но есть все основания предполагать, что он уже тогда, до реального своего возвращения в театр, прекрасно знал, чего не хочет, чего надлежит избегать. Дени Бабле, комментируя гамлетовский эскиз 1899 г., справедливо заметил, что в нем нет «ни малейшего следа влияния Лицеума, ни одной археологической детали, ни одного декоративного мотива, хотя бы отдаленно напоминающего «исторический стиль»». Историзм как таковой нимало Крэга не занимал, более того — раздражал. Задача виделась в том, чтобы высвободить Шекспира из-под тяжести исторического декора и антуража, ввести шекспировскую трагедию в современный духовный контекст.
Примечания
*. Подробнее об этом см.: Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. М., 1965.
**. Проблемам новой драмы посвящены содержательные книги: Шах-Азизова Т.К. Чехов и западноевропейская драма его времени. М., 1966; Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. М., 1977.
***. Крэг родился в 1872 г., отцом его был известный архитектор и декоратор Эдвард Уильям Годвин. Поскольку Терри тогда еще не развелась со своим первым мужем, художником Джорджем Фредериком Уотсом, незаконнорожденного сына крестили поздно, в возрасте 16 лет. Терри — ирландка по отцу, шотландка по матери, Годвин — англичанин.
Примечания
1. Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. М., 1980, с. 160.
2. Там же, с. 328—333.
3. Там же, с. 247—249.
4. The Victorian Mind. L., 1969, p. 180.
5. Zola E. Le Naturalisme au Théâtre. P., 1881, p. 99.
6. Ibid., p. 137, 183.
7. Тэн И. Философия искусства. М., 1933, c. 9.
8. Antoine A. Causerie sur la mise en scène. P., 1921, p. 306.
9. Dhomme S. La mise en scène contemporaine D'André Antoine à Bertolt Brecht. P., 1959, p. 42.
10. Bablet, Décor, p. 123.
11. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX—XX веков. М.; Л., 1939, с. 91.
12. Shaw on the Theatre. N. Y., 1958, p. 65—67.
13. Бернард Шоу о драме и театре. Л.; М., 1963, с. 25.
14. Писатели Англии о литературе. М., 1981, с. 219.
15. Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1977, с. 144.
16. И.-В. Гете об искусстве. М., 1975, с. 421.
17. Tieck L. Schriften. Bd. 28. В., 1854, S. 264—269.
18. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978, с. 35, 358.
19. Бартошевич А. «Пиршество для глаз» и Уильям Поул. — Театр, 1981, № 7, с. 120—129.
20. Там же, с. 124—125.
21. Бернард Шоу о драме и театре, с. 302, 422.
22. Styan J.L. The Shakespeare Revolution. Cambridge, 1977, p. 48.
23. Ibid., p. 49.
24. Victorian Dramatic Criticism. L., 1971, p. 152, 154.
25. Styan J.L. Op. cit., p. 48.
26. Speaight R. William Poel and the Elizabethan Revival. L., 1954, p. 57.
27. Бэт П. Живопись прерафаэлитов за все время ее существования. СПб., 1900, с. 77.
28. Barilli B. Les Préraphaélites. P., 1976, p. 22.
29. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 4, 5.
30. Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928, с. 42.
31. Стринберг А. Характеры Шекспира. — Журнал Театра литературно-художественного общества, 1908/ 1909, № 8, с. 24—25.
32. Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979, с. 197, 198.
33. Вопросы лит-ры, 1969, № 7, с. 94.
34. Maeterlinck M. Le Trésor des Humbles. P., 1896, p. 187.
35. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973, с. 60.
36. Гвоздев А.А. Указ. соч., с. 110.
37. Bablet, Décor, p. 150.
38. Dhomme S. Op. cit., p. 75.
39. Aslan O. L'acteur au XX siècle. P., 1974, p. 100.
40. Мастера искусства об искусстве, т. V, кн. 1. М., 1969, с. 165.
41. Robicher J. Le Simbolisme au Théâtre. P., 1957, p. 115.
42. Dhomme S. Op. cit., p. 78.
43. Fort P. Mes Mémoires. Toute la vie d'un poète. P., 1944, p. 34.
44. Lalou R. Le théâtre en Françe dupuis 1900. P., 1958, p. 34.
45. Rindermann, Bd. IX, S. 82.
46. Bablet, Décor, p. 169.
47. Dhomme S. Op. cit., p. 81.
48. Craig Edward, p. 97.
49. Bablet, Craig, p. 34.
50. Ibid., p. 39.
51. Терри Э.. История моей жизни. Л.; М., 1963, с. 317.
52. Index, p. 21.
53. Bablet, Craig, p. 37.
54. Крэг Г. Из воспоминаний о Сальвини. — Культура театра, 1921, № 7—8, с. 41—43.
55. Craig E.G. Henry Irving. N. Y. — Toronto, 1930, p. 77.
56. Index, p. 248.
57. Brophy B. Berdsley and his World. L., 1976, p. 56.
58. Ibid., p. 58.
59. Craig Edwurd, p. 59.
60. Bablet, Craig, p. 37—38.
61. Д'Оревильи Б. Дендизм и Джордж Бреммель. М., 1912, с. 30.
62. Писатели Англии о литературе, с. 147, 163.
63. Merle R. Oscar Wilde. P., 1957, p. 115.
64. Шестаков Д. Парадоксалисты. — Театр, 1977, № 3, с. 152.
65. Моэм С. Подводя итоги. М., 1957, с. 29, 30.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |
