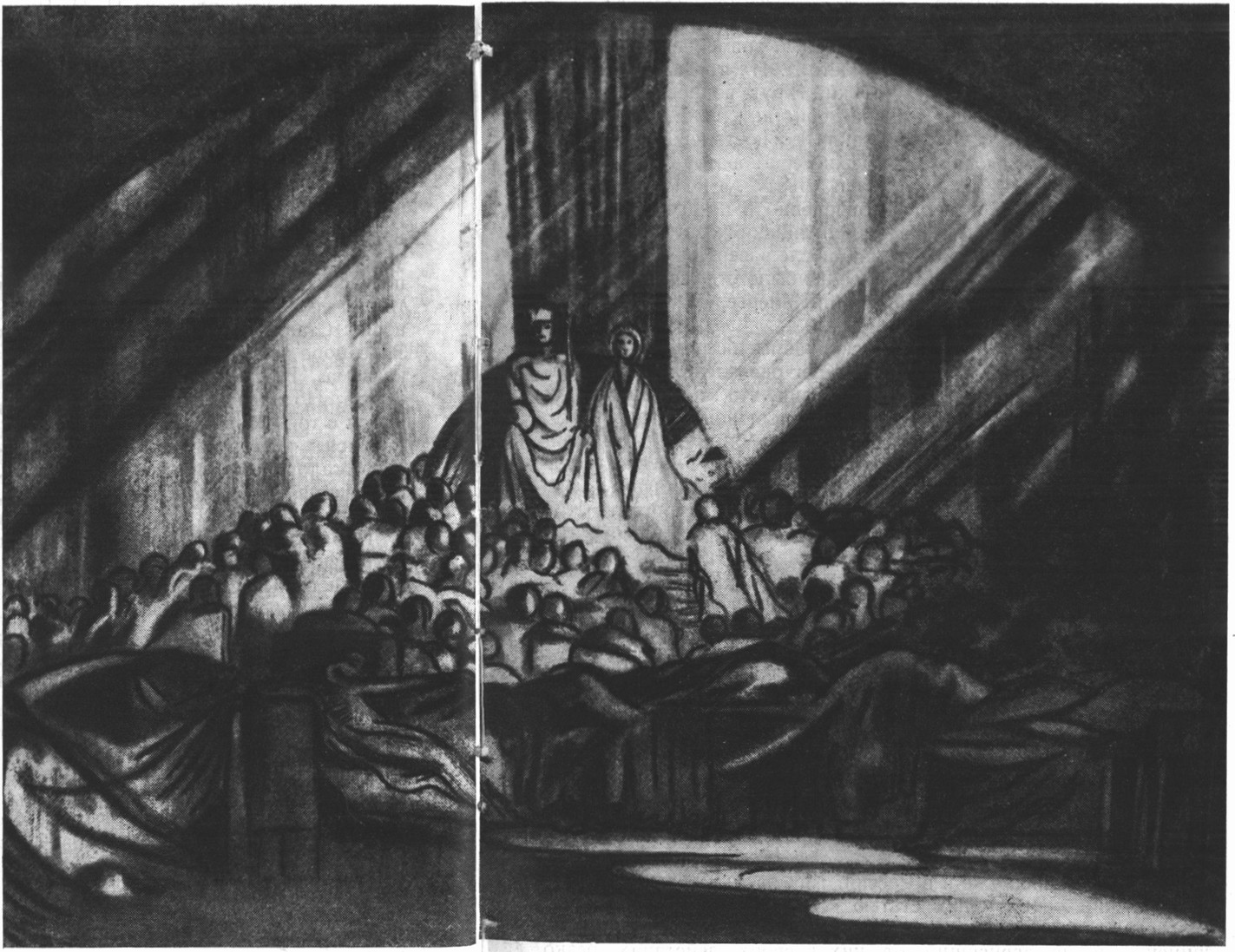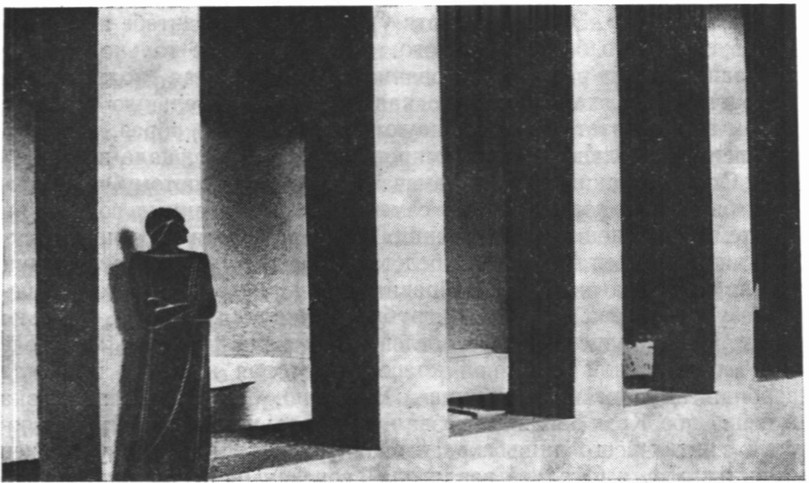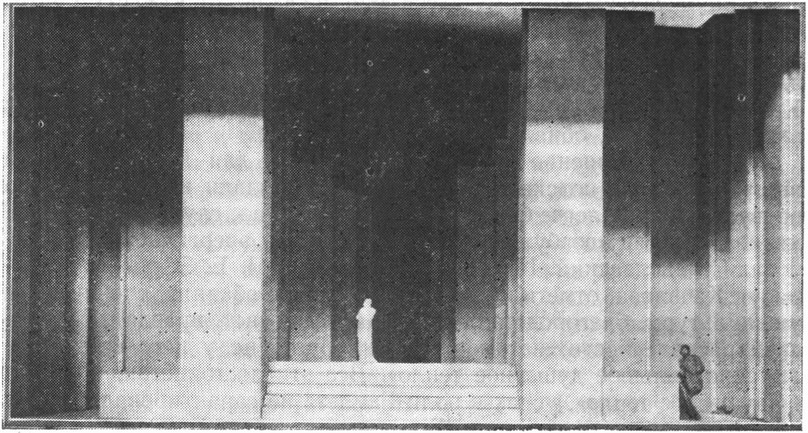Разделы
Счетчики
Глава седьмая. московский «Гамлет»
Искания Станиславского 1905—1908 гг. Переговоры, с Крэгом. Первый приезд Крэга в Москву, его знакомство с искусством МХТ. Второй приезд Крэга в Москву. Беседы 1909 г. Концепция спектакля. «Система» Станиславского на раннем этапе развития. «Гамлетовская лихорадка» 1910 г. Репетиции 1911 г. Офелия. Гамлет — Качалов. Метафоры Шекспира, мизансцены Крэга. Премьера и ее резонанс.
Пока Гордон Крэг во флорентийской тишине писал теоретические статьи и замышлял спектакли, предназначавшиеся для берлинской и лондонской сцены, пока он искал способ наиболее совершенного устройства системы движущихся ширм, его имя все чаще произносилось в далекой Москве. В Камергерском переулке, в стенах здания МХТ велись разговоры, о которых Крэг поначалу не знал ничего, и затеяла эти разговоры опять-таки Айседора Дункан. На рубеже 1907—1908 гг. Дункан триумфально гастролировала в России. Ее искусство приводило в восторг многих, но, быть может, самое глубокое впечатление свободный танец Айседоры произвел на Станиславского. Личное знакомство Станиславского и Дункан вылилось в оживленные беседы о путях и целях развития искусства. Дункан восторгалась Художественным театром и «великим Станиславским» так же горячо, как Станиславский восторгался ее искусством. Их беседы никто не записывал, и мы можем лишь гадать, каким поводом воспользовалась Дункан, чтобы назвать имя Крэга. Неоспоримо только, что имя это она произнесла, более того, прямо предложила Станиславскому пригласить Крэга работать в Художественном театре.
Зная Станиславского, зная, в частности, его всегдашнее неприятие самой мысли о том, что в труппу Художественного театра может, хотя бы ненадолго, войти «чужой» режиссер, способный навязать артистам методы и идеи, Станиславскому далекие, мы вправе предположить, что рассказы Дункан все же внушили ему острый интерес к исканиям Крэга, ибо вскоре произошло событие поистине экстраординарное: приглашение Крэгу было послано. Ни до Крэга, ни после Крэга такого рода приглашений в истории МХТ никогда не случалось.
Можно далее с уверенностью утверждать, что никакие и ничьи советы не побудили бы Станиславского приступить к совместной работе с Крэгом, если бы необходимость их сотрудничества не была продиктована некой высшей закономерностью, чье веление угадали и почувствовали оба — и Станиславский и Крэг. Постичь эту закономерность возможно только сейчас, спустя более чем полвека, когда взаимопроникновение идей Крэга и Станиславского стало основой сценического языка наших дней. В 1908—1909 гг. внезапный альянс двух новаторов воспринимался как своего рода курьез. Всем казалось, что между ними ничего общего нет и быть не может. Но встретившись с Крэгом, Станиславский сразу «почувствовал, что мы с ним давнишние знакомые»1.
Сотрудничеству с Крэгом посвящены проникновенные и взволнованные страницы «Моей жизни в искусстве». Тем не менее на протяжении долгого времени исследователи творчества Станиславского и комментаторы его трудов осторожно, но настойчиво Станиславскому возражали. Приглашение Крэга рассматривалось как «случайный эпизод в истории МХТ», который якобы «в корне противоречил идейным установкам Художественного театра»2. Совместную с Крэгом работу называли «болезненной» для Станиславского. Что же касается спектакля МХТ «Гамлет», то принято было считать этот успех достигнутым «вопреки режиссуре Крэга».
Было бы, разумеется, наивно утверждать, что трехлетняя работа Крэга и Станиславского над «Гамлетом» протекала гладко, без споров и противоречий. Конфликты возникали, и часто, споры кипели, и горячие. Все это — в порядке вещей. Удивительно другое: поверх всех неизбежных разногласий в процессе этой длительной и многосложной работы между Станиславским и Крэгом сохранялись и взаимное доверие и взаимное понимание.
Фиксировать и анализировать разногласия легко; некоторых историков театра эта легкость подкупала и увлекала. В результате, однако, возникала совершенно неправдоподобная картина: работа над «Гамлетом» длится год, другой, третий, а Станиславский все никак не может ни понять намерения Крэга, ни втолковать Крэгу свои требования, ни, наконец, с Крэгом расстаться, если уж преодолеть «постоянные разногласия» не удается.
Самая суть задач, некогда волновавших обоих режиссеров, вообще, наверное, ускользнула бы от историков, если бы не усилия, которые предприняли в 50—60-е годы Дени Бабле (чья книга о Крэге вышла в Париже в 1962 г.) и Н.Н. Чушкин (его труд «Гамлет — Качалов» издан в Москве в 1966 г.). Бабле и Чушкин извлекли из архивов множество неведомых ранее материалов. В 1968 г. появилась научная биография Крэга, написанная его сыном Эдвардом, опубликовавшим большие фрагменты из записных книжек и дневников режиссера. Изучение театральных идей Крэга и его совместной со Станиславским шекспировской постановки обрело основательность. Постепенно устранялись накопившиеся фактические ошибки, которым многократное повторение придало вид неоспоримых истин. Преодолевались недомолвки, выглядевшие загадками, опровергались гипотезы, притворявшиеся аксиомами.
Следующий важный шаг вперед был предпринят в первой половине 70-х годов, когда вышли подготовленный Е.И. Поляковой сборник памяти Л.А. Сулержицкого (М., 1970), второй том летописи И.Н. Виноградской «Жизнь и творчество К.С. Станиславского» (М., 1971), книга М.Н. Строевой «Режиссерские искания Станиславского. 1898—1917» (М., 1973). Названные книги ввели в научный обиход новые документы, сопряженные с работой Крэга и Станиславского над «Гамлетом». В исследовании М.Н. Строевой некоторые важные аспекты создания спектакля «Гамлет» получили более ясное освещение. Строева отвергла, в частности, мысль, будто «Гамлет» Художественного театра «имел успех вопреки режиссуре Крэга» и резонно заметила: «если рассматривать все аргументы не с позиции раз навсегда установленного догмата, а в перспективе дальнейшего движения театрального искусства, станет ясно, что позиция эта требует известного пересмотра». Однако, предполагая, что Крэг стремился «к символическому спектаклю, Станиславский — к поэтическому»3, М. Строева, на наш взгляд, ошиблась в обоих случаях.
Снова повторим: разногласия были, возникали, вспыхивали, это бесспорно, и мы, в свою очередь, их коснемся. Но прежде всего следует выяснить, что же было до разногласий?
В 1976 г. в лондонском издании «Тиэтр куортерли» была помещена работа Лоренса Сенелика «Гамлет» Крэга—Станиславского в Московском Художественном театре»4. В ней и в последующих публикациях Сенелика были впервые обнародованы материалы, извлеченные исследователем из английских и французских архивов. Сенелик предпринял также попытку привести все известные ему документы и факты в системный порядок, воссоздать в хронологической последовательности весь путь к «Гамлету», совместно пройденный Станиславским и Крэгом. Но и Сенелик тоже не задается вопросом, во имя какой цели замышлялась постановка «Гамлета»? Почему, едва друг с другом встретившись, Станиславский и Крэг почувствовали себя «давнишними знакомыми»? Почему Станиславскому чудилось, что «начавшийся разговор являлся продолжением вчерашнего такого же разговора»5.
Такое внезапное — с первой же встречи — ощущение взаимной духовной близости легко было бы объяснить просто-напросто тем, что и Станиславский и Крэг в тогдашней театральной среде были своего рода «белыми воронами». Обоих — и богатого Станиславского и нищего Крэга — никогда и нисколько не интересовала коммерческая сторона театрального предприятия. Бескомпромиссные художники, они всегда имели перед собой только одну цель: эстетическое совершенство. Это понятие обладало и для Станиславского и для Крэга очень большой широтой: эстетическое совершенство имело в их глазах и социальный эквивалент и нравственный смысл. Искомое совершенство не было заинтересовано ни в аншлагах, ни в битковых сборах, ни даже в овациях. Слова Станиславского о том, что ему важно было иметь «успех у самого себя», мог бы произнести и Крэг. Вполне отчетливо понимая, в каком они обществе живут, без всяких иллюзий наблюдая хлопотливую, а подчас и циничную предприимчивость своих собратьев по искусству, оба упрямо желали плыть против течения. За спиной у каждого были годы трудной борьбы. Каждый отдал много сил, чтобы отстоять свою духовную независимость и утвердить в искусстве новые идеи. В этом смысле они, конечно, понимали друг друга с полуслова.
Обсуждая пока еще смутные планы совместной работы, они — к обоюдному счастливому изумлению — сразу почувствовали себя единомышленниками. Их возбуждало сознание общности цели. Все, кто их знал, все, кто был к ним более или менее близок, предполагали — и вполне резонно — что эти двое, чьи устремления столь различны (если не диаметрально противоположны), ни в коем случае понять друг друга не могут, не должны. А они испытывали такое чувство, словно давным-давно друг друга искали и наконец-то нашли.
Всеволод Мейерхольд, один из немногих, с оптимизмом отнесся к приглашению Крэга в Художественный театр. «Всякому свое, — писал он. — Если Станиславский отдаст элемент фантастический и мистический Craig'у, а себе оставит театр реалистический, это будет к благополучию Станиславского»6. Как видим, и этот, едва ли не единственный, оптимистический прогноз, предполагал стилистическое размежевание: на плечи Крэга возлагались фантазия и мистика, на долю Станиславского — забота о реализме. Мейерхольд, прекрасно зная Станиславского и лучше других в России зная Крэга, думал, что антиномия неизбежна, что искусство Крэга в лучшем случае может поместиться где-то рядом с искусством Станиславского, расположиться в параллель к нему, но никак не слиться с ним воедино. Два эти «элемента» в восприятии Мейерхольда существовали порознь: «всякому свое». Более чем вероятно, что такой ход рассуждений был обусловлен мейерхольдовским опытом сотрудничества со Станиславским в Студии на Поварской в 1905 г. Тогда Станиславский, предоставив полную свободу действий Мейерхольду, сам занял скромную позицию стороннего наблюдателя: Мейерхольд разгадывал сценическую поэтику Метерлинка, впервые выстраивал целостную форму символистского спектакля, чрезвычайно далекую от искусства раннего МХТ, а Станиславский следил за его работой с живым сочувствием.
Однако со времен Студии на Поварской прошло три года, и за это время многое изменилось. Теперь, желая выразить в искусстве сцены «сверхсознательное, возвышенное, благородное из жизни человеческого духа», Станиславский склонялся к мысли, что методология, которой пользовался, стремясь к этой же цели, Мейерхольд, его не удовлетворяет. Он уже в 1905 г. пришел к выводу, что «новому искусству нужны новые актеры, с совершенно новой техникой». Проблема — с его точки зрения — состояла прежде всего в том, чтобы выработать такую артистическую технику, которая способна приобщить актера к «сверхсознательному». Станиславский упорно размышлял о творчестве Дузе, Ермоловой, Федотовой, Савиной, Сальвини, Шаляпина, Росси и старался постичь «что-то общее, родственное, всем им присущее». Тут-то впервые и родилась догадка о «магическом творческом «если бы», с помощью которого, думал Станиславский, артист способен переноситься «из плоскости действительной реальной жизни в плоскость иной, создаваемой, воображаемой им жизни. Поверив ей, артист может начинать творить».
С этого начались ранние опыты выработки новой актерской техники, первые очертания «системы». Как ни странно, доныне остается незамеченным одно простое, но важнейшее обстоятельство: эти опыты предопределили отказ Станиславского от бытового репертуара и побудили его обратиться к символистской драматургии. Более поздние привычные представления заставляют нас мысленно соотносить «систему» с Чеховым, Ибсеном, Тургеневым, Островским. Мы забываем, что, желая вывести артиста за пределы «действительной реальной жизни» и сделать его сопричастным жизни «иной», «воображаемой», Станиславский неминуемо должен был обратиться к авторам, чьи произведения властно требуют максимальной мобилизации воображения, отрыва и отказа от материала обыденности. Чехов, под знаком которого начиналась история МХТ, для таких экспериментов, как тогда казалось, не годился. По свидетельству самого Станиславского, «первый опыт практического применения найденных мною в лабораторной работе приемов внутренней техники, направленной к созданию творческого самочувствия, был произведен в пьесе Кнута Гамсуна «Драма жизни».
Эти слова комментаторы Станиславского в 50-е годы объявили ошибочными. По их мнению, «Станиславский заблуждался, считая упадочную символистскую пьесу К. Гамсуна благодарным материалом для проверки своих исканий в области основ сценической игры». Комментаторы охотно указали бы Станиславскому другой, более для него подходящий «материал». Но Станиславский достаточно решительно обосновал свой выбор. Он писал, что в этот период его обуревало страстное желание «опрокинуть» расхожее мнение, «будто наш театр — реалистический театр, будто мы интересуемся лишь бытом, а все отвлеченное, ирреальное нам якобы не нужно и недоступно». И продолжал: «В действительности же дело обстояло совсем иначе. В то время, о котором идет речь, я почти исключительно интересовался в театре ирреальным и искал средств, форм и приемов его сценического воплощения»7.
Итак, он интересовался ирреальным. Первые пробы новой внутренней актерской техники осуществил в постановке «Драмы жизни» Гамсуна, а за ней последовала «Жизнь Человека» Л. Андреева, а потом «Синяя птица» Метерлинка. «Система» Станиславского рождалась в работе над символистскими пьесами — этот факт сомнению не подлежит.
Режиссер Н.В. Петров, которому в ранней юности довелось принять скромное участие в работе над «Гамлетом» МХТ, в 1960 г. сформулировал простую мысль, для театроведов еще долго остававшуюся непостижимой: «приглашение Крэга было явлением вполне закономерным, продолжающим творческие искания Константина Сергеевича»8.
Встретившись с Крэгом, Станиславский, вопреки гипотезе Мейерхольда, отнюдь не намеревался «оставить себе» реалистический театр, а Крэгу отдать «элемент фантастический и мистический». Наоборот: ирреальное в замыслах Крэга как раз и было для Станиславского наиболее существенным.
Его тяготение к «сверхсознательному» носило очень глубокий и серьезный характер. Вскоре — вслед за Мейерхольдом и в отличие от Немировича-Данченко (которого еще долго тянуло к Л. Андрееву) — Станиславский разочаровался в пьесах драматургов-символистов. Правда, и впоследствии он проявлял некоторый, довольно вялый, интерес к таким вещам, как «Песня судьбы» и «Роза и Крест» Александра Блока. Но общее ощущение духовной недостаточности символистского репертуара определенно возникло уже после премьер «Жизни Человека» Андреева и «Синей птицы» Метерлинка. С раздражением отзываясь о пьесах Андреева и Сологуба, говоря, что приходит в ужас от их «фальши, придуманности, сплошной гримасы»9, Станиславский круто изменил репертуарный курс и обратился к классике: ставил Гоголя, Тургенева, помышлял о «Каине» Байрона, о «Братьях Карамазовых» Достоевского, о комедиях Шекспира и даже о «Лизистрате» Аристофана. Однако ирреальное сквозило даже в таком его, можно сказать, злобно натуралистическом спектакле, как «Ревизор» 1908 г.
В работах 1907—1908 гг. перед Станиславским встала во весь рост мучительная проблема «новых принципов постановки», новой «внешней формы», или, как он любил говорить, проблема «сценического фона». Речь шла о таком оформлении сцены, которое было бы способно вывести артиста из плоскости обыденности к вершинам духа, к сверхсознанию. Этой цели мешали узнаваемые, «обжитые» интерьеры, какие устраивал В. Симов для чеховских спектаклей раннего МХТ, этой цели не отвечали импрессионистски нежные, «дышащие» пейзажи, чья лирика аккомпанировала «настроению» чеховской драмы. Нужен был некий совсем иной, небывалый фон, одновременно и нейтральный, и выгодный для актера, — возможно, даже абстрактный.
Однажды Станиславского осенила идея спектакля на фоне черного бархата. Позднее, в 1926 г., он писал, — скорее всего, с излишней категоричностью, — будто «Жизнь Человека» Л. Андреева вообще была принята и поставлена «только потому, что до появления пьесы были случайно найдены подходящие приемы сценического оформления»10. И все же в конечном счете эти новые приемы Станиславского не удовлетворили, ибо, считал он, внешние эффекты отвлекали внимание зрителей «от внутренней актерской сути». Большой успех «Жизни Человека», постановки, во многих отношениях опережавшей время, его не радовал. Он явственно видел противоречия между сценическим фоном и актерской техникой: фон был новый, игра велась по старинке. Он даже предполагал, что всему виной черный бархат: оформление будто бы подталкивало «к обычному актерскому ремесленному приему игры»11. Хотя, по-видимому, дело было не в бархате: к выспренной декламации толкала пьеса, натужная многозначительность текста.
Станиславский убедился, что его поиски «нового сценического фона» зашли в тупик. Тут-то и возник Крэг со своими ширмами.
Станиславский, страстно увлеченный разработкой «новой внутренней актерской техники», с горечью сознавал, что почти вся труппа МХТ к его экспериментам равнодушна. Холодно и отчужденно относился к «системе» Немирович-Данченко. 1 марта 1908 г. Станиславский сложил с себя обязанности директора МХТ и даже вышел из числа пайщиков театра, причем соглашался впредь «ставить самостоятельно не более двух пьес в сезон» и одну из этих двух пьес — непременно для «исканий»12. Конфликт между двумя руководителями МХТ, который Немирович называл их «творческой рознью», углублялся и обострялся. Крэг же проявил к новым методам Станиславского живой и самый искренний интерес. Одного этого обстоятельства было бы довольно, чтобы Станиславский, встретившись с Крэгом, загорелся, воспрянул духом.
Но существовали и другие, еще более сильные импульсы, вскоре сообщившие совместной работе Крэга и Станиславского большой масштаб, исключительную напряженность и значительность. Самый мощный импульс излучала, конечно, избранная ими пьеса — трагедия «Гамлет».
Переписка между Крэгом и Станиславским началась в апреле 1908 г. Станиславский четко подтвердил переданное Крэгу через Дункан приглашение работать в МХТ, оговорившись, правда, что надо подождать, пока «будет составлен репертуарный план Художественного театра»13. Крэг отозвался письмом, где сразу же была названа одна-единственная пьеса: «Мне доставит величайшее удовольствие поставить «Гамлета» для Вас»14. Летом 1908 г. Станиславский отдыхал в Гомбурге, а затем в Вестенде на берегу Северного моря. Он звал Крэга приехать к нему и лично обо всем договориться. Крэг повидаться с ним не смог, но направил Станиславскому обстоятельное послание, стремясь «честно раскрыть себя и свои желания». Он писал, что мечтает осуществить вместе со Станиславским «самый лучший спектакль, какой когда-либо видели на лучших подмостках Европы», что ставить хотел бы Шекспира (называл теперь не только «Гамлета», но и «Макбета», «Бурю», «Сон в летнюю ночь»), соглашался и на Ибсена («Привидения», «Викинги», «Пер Гюнт»). Далее в письме Крэга было сказано: «Я беден. Всегда был беден и всегда буду беден... Вот почему я позволяю себе отказываться от предложений ставить проходные спектакли за маленькое вознаграждение. Я действительно влюблен в Искусство. И в Театр, каким бы подлым и плохим он ни был. У меня нет других интересов в жизни...»15. Ему хотелось верить, что в Художественном театре он встретит такое же полное истинного энтузиазма отношение к творчеству.
Вслед за этим посланием к Станиславскому в Вестенде прибыл от Крэга Морис Магнус. В беседе с ним Станиславский предложил, чтобы Крэг в октябре 1908 г. наведался в Москву: «обо всем потолковать, а также познакомиться с театром, посмотреть его спектакли, побеседовать с актерами». Дорожные расходы Станиславский принимал на себя. Он выражал далее готовность заключить с Крэгом «контракт на год, что означает работу в течение семи месяцев театрального сезона». За Крэгом сохранялось право «приезжать и уезжать, когда захочется», с одним только условием — не делать «слишком больших перерывов в работе». Заканчивая свой пространный отчет Крэгу, Магнус писал: «Это самое лучшее предложение из всех, о которых мне когда-либо приходилось слышать»16.
Крэг радостно начал готовиться к поездке в Москву. О том, что его в Москве ожидает, он имел тогда довольно смутное представление. Однако он не сомневался в главном — в том, что ему предстоит встреча с людьми, которых не коснулся ненавистный дух «коммерциализма».
Ему было тридцать шесть лет. Он стосковался по сценической практике, но устал от «деловых людей» и от всей атмосферы европейского театра (и Лондона, и Парижа, и Берлина), где элегантность и эффектность несли с собой аромат барыша. Люди искусства были «людьми действия». Они любили славу и делали деньги. Все, что отвращало Крэга от Макса Рейнхардта, Отто Брама и Бирбома Три, в Москве — он чувствовал это на расстоянии — ему не грозило. А кроме того, его манила Россия, далекая снежная страна, столь непохожая на вдоль и поперек уже изъезженную, назубок выученную Европу. Душа Крэга жаждала того, что он называл «русской серьезностью».
14 октября 1908 г. Московский Художественный театр праздновал 10-тилетний юбилей. В тексте речи, произнесенной по этому поводу Станиславским, были, между прочим, и слова о том, что в самое последнее время он натолкнулся «на новые принципы, которые, быть может, удастся разработать в стройную систему». (Это, по-видимому, вообще самое первое упоминание о «системе».) Недавней работе над «Драмой жизни» Гамсуна придавалось подчеркнуто важное значение: Станиславский говорил о желании добиться «сильных переживаний отвлеченных мыслей и чувств, большой энергии темпераментов, тонкого психологического анализа, внутреннего и внешнего ритма, большого самообладания, внешней выдержки и неподвижности, условной пластики и торжественного, мистического настроения всей пьесы». Он высказал далее предположение, что вскоре театру придется временно вернуться к «простым и реальным формам сценических произведений». Ибо, «идя от реализма и следуя за эволюциями в нашем искусстве, мы совершили полный круг и через десять лет опять вернулись к реализму, обогащенному работой и опытом». Но останавливаться на этом Станиславский не хотел: «Мы опять возобновим наши искания, — продолжал он, — для того, чтобы путем новых эволюций вернуться к вечному, простому и важному в искусстве»17.
На следующий день после того, как труппа МХТ прослушала программную речь Станиславского, 15 октября 1908 г. Гордон Крэг прибыл в Москву. Театральная газетка сообщила, что «известный английский режиссер-новатор», «один из лидеров театральной революции» явился не с пустыми руками, а с «планами нескольких постановок», причем, вполне вероятно, какая-то из его постановок будет осуществлена в МХТ18. За три недели Крэг просмотрел весь текущий репертуар Художественного театра: «Синюю птицу», «Доктора Штокмана», «Горе от ума», «Жизнь Человека», «Вишневый сад», «Дядю Ваню», присутствовал на репетиции «Ревизора». В целом искусство МХТ он оценил чрезвычайно высоко и в статье, предназначенной для журнала «Маска», писал: «У меня сложилось впечатление, что русские актеры Московского Художественного театра в процессе игры испытывают тонкое духовное наслаждение в большей мере, нежели все остальные актеры Европы. В их спектаклях превосходно все, за что бы они ни взялись, — с одинаковым мастерством, деликатностью и безошибочной тонкостью они играют и пьесу из современной жизни с современными чувствами, и волшебную сказку. Никакой небрежности. Все делается серьезно. Серьезность вообще главная отличительная черта этого театра... Наибольшее удовольствие доставило мне представление «Дяди Вани», но эта труппа в состоянии превосходно справиться с какой угодно пьесой».
Примечательно, что среди спектаклей «лучшей труппы Европы» Крэг на первое место выдвинул «Дядю Ваню». Он сразу уловил самую чистую, самую правдивую — чеховскую — ноту в искусстве МХТ. Его восхитила игра Станиславского в роли Астрова. О Станиславском — Штокмане он тоже отозвался тепло: артист, отметил Крэг, «показывает, как можно обходиться без всякой театральности, не становясь ни смешным, ни скучным»19. Из дневниковых записей Крэга видно, что его взволновал талант И. Москвина («самый лучший актер в русском Художественном театре»), В статье были названы также имена О. Книппер, М. Лилиной, Л. Сулержицкого, А. Артема, Л. Леонидова, В. Качалова, А. Вишневского, В. Лужского, молодой А. Коонен.
С Коонен Крэг немало беседовал (она знала английский). «Я сказал ей, что было бы хорошо, если бы все серьезные актеры и актрисы могли какое-то время проводить в Петербурге, при дворе. Только там и можно в России увидеть стиль тонкой аристократичности во внешнем облике и в манерах... Для воплощения шекспировских пьес необходимо прежде всего обладать внутренним величием». Кажется, что это — пустая фраза, общее место, тем более, что представления Крэга о русской аристократии и о петербургских придворных кругах были, мягко выражаясь, туманные. Однако за «общим местом» скрывалось и вполне конкретное содержание. Дело в том, что далеко не все московские впечатления Крэга были благоприятны. Как ни странно, его обрадовали репетиции «Ревизора» («превосходно!» — сказано в дневнике), но к спектаклю «Горе от ума» он остался равнодушен. «Синяя птица» показалась «милой», но «слишком хаотичной», безусловное одобрение вызвала только музыка Ильи Саца. «Жизнь Человека» Крэга разочаровала. «Это, — констатировал он, — типичный Художественный театр, который обворожителен, пока сохраняет верность реализму, но проваливается, как только пытается от реализма отойти. Он и в этом случае остается умным, но нисколько не вдохновенным»20. Примерно такие же эмоции принес «Бранд» с Качаловым в заглавной роли: Крэг не досмотрел спектакль, ушел после второго акта.
Восхищение чистотой и простотой чеховского тона перебивалось чувством, что артисты МХТ «мельчат», что им плохо дается возвышенное. И это беспокоило Крэга: ведь с ними он предполагал вскоре ставить Шекспира. Потому-то и говорил Коонен о «внутреннем величии».
В тогдашних беседах со Станиславским Крэг был абсолютно откровенен: никаких недомолвок, никаких вежливо-уклончивых комплиментов. Ему казалось, что Станиславский возлагает на реализм актерской игры неоправданно большие надежды. В статье Крэга по этому поводу было написано: Станиславский «верит в реализм как в средство, с помощью которого актер может проникнуть в психологию драматурга. Я в это не верю». Но тотчас же следовала примечательная оговорка: «Здесь не место спорить относительно мудрости или вздорности этой теории: и в куче мусора иногда удается найти жемчужное зерно. И глядя вниз можно иногда увидеть небо»21.
Несомненно, что вопрос о том, как на сцене выразить величие человеческого духа, в беседах 1908 г. обсуждался оживленно и горячо. Историки театра обычно спешат сообщить, что Станиславский тогда твердо защищал реализм, реалистический метод. Однако идея исканий, в процессе которых можно от реализма отдаляться, дабы затем к нему возвращаться, его обогащая и утончая, была вполне определенно высказана уже в речи Станиславского к 10-летию МХТ. Та же мысль пронизывает многократно цитировавшееся письмо Станиславского к Л.Я. Гуревич: «Конечно, мы вернулись к реализму, обогащенному опытом, работой, утонченному, более глубокому и психологическому. Немного окрепнем в нем и снова в путь на поиски. Для этого и выписали Крэга. Опять поблуждаем и опять обогатим реализм»22. С помощью этой цитаты обычно доказывают, что в перспективе, в итоге любых блужданий Станиславский имел в виду возвращение к реализму. Так оно и есть. Но стоит все же обратить внимание на то, что цитируемое письмо датировано 5 ноября 1908 г. Крэг тогда был в Москве, Станиславский с ним чуть ли не ежедневно беседовал (в театре, на Камергерском, функции переводчика выполнял Л.А. Сулержицкий, дома, в Каретном ряду, — М.П. Лилина). И, надо думать, слова Станиславского о его готовности вместе с Крэгом «поблуждать», пуститься «снова на поиски», не менее существенны, чем слова про «обогащение реализма».
На страницах «Моей жизни в искусстве» Станиславский со всей определенностью писал, что поверил в Крэга как в «великого режиссера», способного «дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи для брожения». Надежды, которые он возлагал на Крэга, смыкались в его сознании с надеждами, которые подавали первые пробы «системы». (Станиславский в ту пору называл ее «грамматикой» актерского творчества.)
Беседы Станиславского с Крэгом осенью 1908 г. еще не записывались. Но ясно, что Станиславский быстро уверился в близости его и Крэга намерений и замыслов. Он полагал, что новое «искусство движения», которое проповедовал Крэг, полностью соответствует его собственным исканиям. Крэг, писал Станиславский, «как и я, стал ненавидеть театральную декорацию». Они сходились в убеждении, что «нужен простой фон для актера, из которого, однако, можно было бы извлекать бесконечное количество настроений с помощью сочетания линий, световых пятен и проч.». Оба руководствовались желанием поднять театр к философским обобщениям, на высоту «сверхсознательных проблесков вдохновения» (слова Станиславского). Высшая, вечная, сверхличная правда идеи должна была подтверждаться безусловной правдой сценического самочувствия и сценического поведения артиста. Вот что имел в виду Станиславский, когда, познакомившись с замыслами «гениального Крэга», радостно констатировал: «разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мной встрече...»23
Единственное, что все-таки затрудняло Станиславского, — это горячее желание Крэга без промедленья приступить к «Гамлету». О «Гамлете» они тогда, конечно, говорили много, и некоторые постановочные идеи Крэга Станиславского сразу же очень увлекли. Для него самого в тот момент не было более желанной пьесы.
Проблема — и непростая — состояла лишь в том, кто может играть главную роль. Станиславский в труппе МХТ Гамлета не видел. Крэг считал, что Гамлета должен играть сам Станиславский. Константин Сергеевич раздумывал, колебался, предлагал другие пьесы. Крэг не возражал, но морщился, и твердил свое: «Гамлет», «Гамлет»!
За несколько дней до отъезда Крэга из Москвы Станиславский писал Бунину: «Для него как англичанина приятнее всего было бы поставить Шекспира. Мы думаем об этом, но... пока еще ничего не решили»24.
Добиваясь заключения контракта с Крэгом, Станиславский должен был преодолеть скепсис Правления МХТ (которое сомневалось в «деловых качествах» эксцентричного чужеземца) и сломить сопротивление Немировича-Данченко. Немирович считал, что труппа театра и без того страдает от «неестественного совмещения разнородных запросов в одном деле», а потому намерение «использовать Крэга» ему не улыбалось25. Но Станиславский был увлечен Крэгом и ничьих возражений не слушал.
Когда Крэг покинул Москву, вопрос о его приглашении на будущий сезон режиссером в Художественный театр был уже бесповоротно решен. Вопрос о постановке «Гамлета» все еще висел в воздухе.
Внутренняя жизнь Художественного театра этой поры — особая и деликатная тема, мы вынуждены лишь изредка ее касаться. Тем не менее нельзя не обратить внимание на то, что вскоре после отъезда Крэга во Флоренцию разгневанный Станиславский написал обращение к труппе, красноречиво озаглавленное «Караул!!!» Он хотел, чтобы послание было вывешено на доске объявлений. Но «нашли, что оно несправедливо. Правление не советовало мне его вывешивать»26. Уведомляя Станиславского о том, как реагировало Правление на его вопль, Немирович-Данченко эпически пояснял: члены Правления кое с чем согласны, «да, правда, что-то неладное творится, во многом Константин Сергеевич прав, но многое несправедливо обобщает, многое преувеличивает, кое в чем сам виноват...». Свое мнение Немирович также не скрыл: «Ваше воззвание не возбудило во мне жара... Я к нему равнодушен»27.
В «воззвании» Станиславского было целых 18 пунктов. Он возмущался «апатией» и недисциплинированностью труппы, непомерностью «актерских самолюбий» и т. д., и т. п. По двум пунктам его обращения, писал Немирович, «Правление ничего не нашло сказать». Как раз эти пункты интересны для нас. В пункте 14 сказано: «Новые теории в нашем искусстве, добытые упорным трудом, способны заинтересовать театр не более как на одну-две недели». Это — о себе, о своей «грамматике» актерского творчества. В пункте 15 читаем: «Новые веяния в нашем искусстве, принесенные к нам с Запада, не встречают сочувствия»28. Это — о Крэге.
Прошло целых два месяца, прежде чем Правление МХТ постановило — 19 января 1909 г. — приступить к работе над «Гамлетом». На следующее утро, 20 января, Станиславский телеграфировал Крэгу: «Приступаем немедленно к постановке «Гамлета». Просим Вас тотчас же приехать. Невозможно начать без Вас»29.
Не лишним будет напомнить, что незадолго до того, в 1908 г., Станиславский вознамерился было написать пьесу. Судя по сохранившимся черновым наброскам, действие его драмы «Комета» происходило в последний день существования Земли: близко над Землей прошла комета, уничтожившая все живое. Автора одолевают апокалиптические видения — «развалины, пожары, разорение, трупы». В ужасающем хаосе раздается голос вышедшего из шахты и чудом уцелевшего Рудокопа: «Живые, откликнитесь!» Но отклика нет. Молчание. «Пар и смрад». Только эхо — зловещий голос Неба — вторит одинокому человеку... Биографы Станиславского упоминают о том, что рукописи «Кометы» позволяют постичь тогдашнее «направление духовных исканий режиссера»30, но не связывают эти его «духовные искания» с замыслом «Гамлета». А связь была, и прямая.
И Станиславский и Крэг, подобно принцу Гамлету, с некоторых пор «утратили всю свою веселость». Мрачные предчувствия давали себя знать и в черновиках наивной пьесы Станиславского, и в крэговских эскизах к «Макбету». Как и после памятного 1825 г., так и после 1905 г., говоря словами Ю. Тынянова, «время вдруг переломилось: раздался хруст костей... » Стремительно уплывали в прошлое образы благополучной «belle époque». Формально, внешне эта эпоха еще длилась, и блеск золота многим слепил глаза, но наиболее отзывчивые художники уже слышали подземные толчки и предугадывали предстоящие Европе катаклизмы. Станиславский, который волей русской истории раньше Крэга очутился вблизи площадей, где лилась кровь, сразу почувствовал в крэговской замысле «Гамлета» отголоски надвигающейся исторической трагедии.
Оба воспринимали постановку «Гамлета» отнюдь не как решение репертуарного масштаба. «Гамлет» ставился не после Гоголя, Гамсуна и Леонида Андреева (хотя в репертуаре МХТ шел вслед за Гоголем, Гамсуном и Андреевым). «Гамлет» ставился после позора англо-бурской войны, пережитого Крэгом, и после позора Кровавого воскресенья, пережитого Станиславским. Обе империи, Россия и Великобритания, перенесли сильнейшие потрясения.
Спектакль замышлялся не столько в театральном, сколько в трагедийно-историческом контексте, и вне исторического контекста его понять нельзя. «Мы, — писал в 1908 г. Александр Блок, — еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа»31. Само по себе восприятие «Гамлета» в такой исторический момент вызывало ощущение боли. Давным-давно знакомую пьесу больно было читать — до такой степени саднящими, режущими душу оказывались вдруг реплики, памятные с детства. Они внезапно обрели почти непереносимую актуальность. Тем более трудным представлялось создание режиссерской композиции, в которой вся эта клокочущая энергия слова и мысли могла бы завладеть сценой.
Произведение, над которым оба они мучились, возникало как бы на перекрестке идей, на юру, под ветром сменяющихся времен. Они верили в идеалы гуманизма и справедливости. Приступая к «Гамлету», они считали, что решаются на ответственный и серьезный акт защиты этих идеалов, которые в существе своем остаются и вечно пребудут мощной фундаментальной силой жизни. Впоследствии Станиславский с подкупающей скромностью и простотой писал: «Началась интересная работа. Крэг руководил ею, а я с Сулержицким стали его помощниками»32.
Однако еще до второго, в 1909 г., приезда Крэга в Россию произошли некоторые важные события. В частности, без Крэга и Крэгу вопреки, был решен щепетильный вопрос, кто будет играть Гамлета. Распределение ролей, утвержденное 31 января, выглядело так: Гамлет — В.И. Качалов, Полоний — В.В. Лужский, Горацио — Н.О. Массалитинов, Лаэрт — А.Ф. Горев, Клавдий — Л.М. Леонидов и А.Л. Вишневский, Гертруда — М.Г. Савицкая, Офелия — А.Г. Коонен и В.В. Барановская. Не зная об этом, Крэг в феврале 1909 г. писал М.П. Лилиной (фактически адресуясь к Станиславскому), что видит Гамлета «крупным человеком, с массивными руками и ногами, с героической львиной головой и широко раскрытыми глазами». Гамлет — «не обычный человек, его слова и его взгляд так экстраординарны, так сверхутончены, что люди шепчут (как они всегда это делают), будто он безумен. Точно так же безумны были Дионис и Христос, но то были боги, Гамлет же человек, до такой степени перенасыщенный интоксикацией любви, что его никто не понимает — ни родная мать, ни критики вплоть до наших дней... Я надеюсь, что Станиславский будет играть Гамлета, он рожден для этого. Я вижу его Гамлетом и слышу тоже. Я вижу, как он стоит на сцене — почти неподвижно, твердо, подобно горе, увенчанной снеговой вершиной. У подножья этой горы копошатся, ползают, суетятся многочисленные фигурки маленьких подлых людишек и их жен»33.
Мысленно примеряя роль Гамлета Станиславскому, Крэг тем самым заранее предчувствовал мощное трагедийное напряжение будущей композиции спектакля. Помещая в центре такого героя, Крэг тотчас же убеждался, что вся структура начинает шататься, ходить ходуном. Он этого и хотел; ему виделся мир, который колеблется от каждого шага и каждого слова принца датского. Когда Крэг впоследствии делал режиссерскую разметку трагедии, когда он вырезал из дерева плоскую фигурку, ныне выставленную в одной из витрин Музея МХАТ, то абрис Гамлета, контур Гамлета, который выводила его рука, сохранял соответствие пластике Станиславского.
Глядя на эту фигурку, видишь, что каждое ее движение — оживи она на сцене — должно было становиться значительным, каждый жест, поворот головы — событием. Эта фигура потенциально — и мускульно, и духовно — сильнее окружения, сильнее целого, она «перевешивает» Эльсинор. В скрытых возможностях — грозное, взрывное, хотя и сдерживаемое до поры желание разрушить дворец. Крэговский Гамлет мог бы это сделать: разом сломать всю постройку, повергнуть на планшет все ширмы, вообще «все потопить». Вот эта его возможность — не осуществляемая, но ощущаемая — и создавала трагедийное напряжение замышляемой Крэгом формы.
Конечно, никакого намека на портретное сходство со Станиславским в набросках Крэга нет. Но пластический импульс, источаемый Станиславским, его человеческой сущностью, угадывается легко. В актерской природе Станиславского Крэга увлекала возможность выразить идеальное и самый идеал, ибо Крэг трактовал Гамлета как «лучшего из людей».
Станиславский, по словам Немировича-Данченко, «втайне мечтал» о Гамлете. Но Немирович «противился его стремлению к трагедии, считал, что роли героические и трагедийные не в его плане». А в подобных случаях Станиславский с Немировичем не спорил. Кроме того, он помнил, конечно, какие муки принесла ему роль Брута в «Юлии Цезаре». И постепенно примирился с мыслью Немировича, что «в труппе театра только один Качалов мог быть великолепным Гамлетом»34. В одном из писем Станиславского этой поры замечено: Качалов — «быть может, далеко не идеальный», но все-таки возможный Гамлет35.
Крэг же и много позднее, даже после его второго приезда в Россию, все еще надеялся, что Станиславский сыграет Гамлета сам. 5 сентября 1909 г. он писал Станиславскому: «Чем больше я перечитываю «Гамлета», тем яснее вижу Вашу фигуру. Ничто не может лучше, нежели самое простое исполнение этой роли, вывести ее на высоты, к которым поднимается Шекспир. И наиболее близко к этим высотам из всего, что я видел в Вашем театре, — это Ваша игра в «Дяде Ване»... Что может быть более высоким или более величественным, чем простота, с которой Вы подходите к Вашим ролям в современных пьесах? Я имею в виду лично Вашу игру. Разве мысль в «Гамлете» не развивается и не выражает себя в словах точно так же, как мысль чеховских пьес? Если в «Гамлете» и есть куски, где слова не столь просты, сколь у Чехова, то там есть и другие куски, поистине являющие собой квинтэссенцию простоты».
Крэг горячо внушал Станиславскому, что такой чеховской простоты он ожидает в «Гамлете». Очень скоро, однако, сам он вынужден был по-иному оценить взаимоотношения между простотой Чехова и простотой Шекспира. По всей вероятности, когда он писал это письмо, ему важно было одно: любой ценой добиться, чтобы играл Станиславский. «Я не в силах передать Вам, — продолжал Крэг, — как бы мне хотелось видеть Вас Гамлетом. Не могу представить себе ничего более идеального на сцене, и всегда, когда думаю о постановке этой пьесы в Москве, я страдаю при мысли о том, сколько потеряет сцена без Вашего присутствия. Я уверен, что Качалов действительно будет очень хорош и что все в Москве с этим согласятся. Но у меня есть глубокое убеждение, которое я преодолеть не в состоянии, что вся Европа была бы потрясена и что ей пришлось бы задуматься, если бы она смогла увидеть Вас в этой роли»36.
Противопоставление Москвы (влюбленность московской публики в Качалова была известна Крэгу) Европе, которую надлежит «потрясти» и заставить «задуматься», содержало в себе мягкий намек на то, что соревноваться, например, с Гамлетом — Моисеи Качалову было бы нелегко. Станиславскому трагические роли не удавались никогда, и еще в 1899 г. критик С. Васильев-Флеров писал: «г-н Станиславский все, что хотите, кроме трагика. Не может быть трагическим актером человек с улыбающимися глазами»37. Качалов же иногда играл трагические роли красиво и убедительно. Так что скорее всего прав был все-таки Немирович: Гамлета лучшего, чем Качалов, труппа МХТ Крэгу предложить не могла.
Когда Крэг получил телеграмму, что «Гамлет» включен в репертуар и что его ждут в Москве, он тотчас же сообщил, что приехать может не сразу, а только через два месяца, писал, что без промедленья начинает «рисунки для Гамлета», что будет «работать над ними с великим наслаждением», спрашивал о распределении ролей, о предполагаемых купюрах в тексте, о том, как Станиславский намерен подходить к «Гамлету» — «чтобы я учитывал это, делая рисунки»38.
А тем временем Правление МХТ, опасаясь, что Крэг задержится во Флоренции надолго, постановило заказать художнику В.Е. Егорову (ранее оформившему «Драму жизни», «Жизнь Человека», «Синюю птицу») декорации «Гамлета» и спешно командировать его в Данию и Англию для изучения исторических памятников. Егоров выполнил задание оперативно, за один месяц, побывал в Дании, а проездом и в Германии, осмотрел и зарисовал старинные замки, башни, крепостные стены, бастионы, гробницы, подъемные мосты и пр. 24 февраля 1909 г. Егоров показывал Станиславскому свои наброски. В этот же день Станиславский начал серию бесед с исполнителями трагедии. Поскольку Крэг еще не приехал и на этих беседах не присутствовал, некоторые историки МХТ ввели в обиход выражение: «докрэговская редакция» «Гамлета».
Анализируя сохранившиеся документы, убеждаешься, что на деле «докрэговской редакции» спектакля никогда не существовало. Материалы Егорова Станиславский вообще не учитывал и даже не упоминал. Если Сулержицкий впоследствии умилялся «реалистичностью» егоровских рисунков39, то Станиславский, рассказывая историю работы над «Гамлетом», имя Егорова не называл. Спустя четверть века Н.Н. Чушкин показал ему фотографии егоровских эскизов. Станиславский, недоуменно прищурившись, сказал: «Очень интересно, но я решительно ничего не помню. Впечатление от крэговского замысла было так сильно, что совершенно вытеснило из моей памяти все, что мы, оказывается, делали с Егоровым»40. «Утолщенный реализм» рисунков Егорова забылся. Это и неудивительно: их громоздкий «историзм» в стиле модерн ничем не отличался от самой обычной обстановки «костюмного» спектакля тех времен.
Станиславский же, беседуя с актерами в марте 1909 г., развивал постановочные идеи, которые они с Крэгом в прошлом году успели предварительно обговорить. И если он все же сворачивал подчас к привычным для МХТ историческим и бытовым реалиям, то сам себя на ходу поправлял и корректировал. «Эльсинор, — говорил Станиславский, — холодная каменная тюрьма... Пушки в Эльсиноре всегда настороже. Царит грубый милитаризм. Замок — казарма». Все это пока — вполне в духе и тоне Художественного театра. Но как только Станиславский переходили Тени, «ворвавшейся с той стороны гроба», весь облик предполагаемого спектакля менялся. «...Вдруг ворвался мистицизм, — продолжал он, — все задрожало, сразу началась трагедия. Хотелось бы, чтобы, когда вторгнется Тень, мистицизм так овладел бы сценой, чтобы и самый замок заколебался, все изменилось бы».
Публикуя данные записи, сделанные Л. Сулержицким, И. Виноградская специально отметила: «до крэговского проекта». Мы сказали бы: «в соответствии с замыслом Крэга». Это соответствие особенно ясно проступает в словах Станиславского о 2-й сцене I акта: «На золотом троне сидят король, королева, и слева, с ними рядом, сидит задумчивый Гамлет... Задача — показать трон, трех действующих лиц, а свита, придворные сливаются в один общий фон золота»41. Данная композиция с эскизами, предложенными Егоровым, не может быть ни соотнесена, ни увязана. Зато она бесспорно совпадает с эскизами Крэга и его идеей показать «самодержавие, власть, деспотизм короля... в золотом цвете»42.
Излагая — пока еще, естественно, в общих чертах — замыслы Крэга, Станиславский с первых же бесед начал приобщать участников будущего спектакля к новой «грамматике» актерского творчества. М.Г. Савицкая, которой предстояло репетировать Гертруду, тогда же, в марте 1909 г., записала основные термины его «грамматики»: «лучеиспускание — я хочу убедить тебя»; «лучевосприятие — убеди меня»; «самообщение и самоубеждение — я хочу себя убедить, но что-то не позволяет принять (борьба)»; «самовыявление — чтобы убедить другое лицо»; «самососредоточенность — нежелание общаться с другим, весь в себе». Далее указывались дополнительные оттенки: «самомечтание», «самоуслаждение», «самовыявление ради самобичевания», «самоубеждение ради убеждения других — желание и себя сделать яснее»; наконец, «самобичевание ради самоубеждения»43.
Как видим, тогда методология Станиславского была еще очень сложна и, понятно, усваивалась с трудом. Но в его «грамматике» почти все термины недаром начинались приставкой «само»: речь шла прежде всего о том, что артист должен найти в себе, дабы «убедить» себя или партнера. Глагол «убедить» в этой «грамматике» выполнял множество задач. «Грамматика» по ходу репетиций уточнялась и варьировалась. По замыслу Крэга строилась форма спектакля, по «системе» шла работа с актером. Такой дуализм сохранялся на протяжении трех с половиной лет — он пронизывает весь процесс подготовки спектакля.
В конце марта 1909 г. МХТ выехал на гастроли в Петербург, куда 3 апреля прибыл и Крэг с новыми эскизами к «Гамлету». Его рисунки Станиславский назвал «очень талантливыми»44. Немирович тоже был покорен: «Чем больше думаю обо всем, что видел у Крэга, тем больше увлекаюсь красотой, благородством и простотой этой формы. И именно для Шекспира»45.
Второй приезд Крэга в Россию в 1909 г. знаменовал собой начало практической работы над «Гамлетом». Их тогдашние беседы со Станиславским охватывали широкий круг вопросов — от истолкования трагедии в целом до характеристики каждого из персонажей, от общей композиции спектакля до постановочного решения отдельных эпизодов. Два режиссера-новатора совместно, действие за действием, анализировали «пьесу № 1» мирового репертуара. Записи бесед велись одновременно и по-русски (Л. Сулержицким и М. Ликиардопуло), и по-английски (Урсулой Кокс) — в апреле в Петербурге, а затем, в мае, после завершения гастролей МХТ, уже в Москве, где Крэгу тотчас же было отведено специальное помещение на третьем этаже здания в Камергерском: его ателье, его макетная мастерская.
В те самые дни, когда шли их нескончаемые беседы, Станиславский писал композитору Илье Сацу: «Крэг оказался настолько талантливым и неожиданным в своей фантазии, что мне чудится, как скоро он перевернет во мне что-то, что откроет новые горизонты... Крэг ставит «Гамлета» как монодраму. На все он смотрит глазами Гамлета»46. Еще выразительнее письмо к Л.Я. Гуревич: Крэг «творит изумительные вещи, и театр старается выполнить по мере сил все его желания. Весь режиссерский и сценический штат театра предоставлен в его распоряжение, и я состою его ближайшим помощником, отдал себя в полное подчинение ему и горжусь и радуюсь этой роли. Если нам удастся показать талант Крэга, мы окажем большую услугу искусству. Не скоро и не многие поймут Крэга сразу, так как он опередил век на полстолетия»47.
Основная идея Крэга: сыграть «Гамлета» как трагедию человеческого духа, которому враждебна окружающая «грубая материя», взглянуть на всю пьесу «глазами Гамлета», была принята Станиславским едва ли не восторженно, ибо к этому стремилось его собственное творческое сознание. Да, дерзкий замысел «монодрамы» в корне противоречил эстетическим принципам раннего МХТ. Но ведь и муки символистских спектаклей самого Станиславского, и его увлечение экспериментами Мейерхольда в Студии на Поварской тоже означали желание прежнюю практику пересмотреть, от нее отойти. А мысли о Шекспире и о «Гамлете», сходные с мыслями Крэга, высказывались уже и в России. Как раз в 1909 г. Иннокентий Анненский опубликовал статью «Проблема Гамлета». Лица, окружающие Гамлета, писал поэт, «несоизмеримы с ним; они ему подчинены, и не зависящий от них в своих действиях, резко отличный даже в метафорах, — он точно играет ими: уж не он ли и создал их... всех этих Озриков и Офелий?»48. Гамлет, который «создал» всех остальных персонажей трагедии, от них не зависит, ими «играет» — это ведь крэговский Гамлет. И если так воспринимал Гамлета современник, русский поэт, то не удивительно, что крэговское предложение увидеть всю пьесу «очами души» принца увлекло и русского режиссера. Тем более, что Крэг, в отличие от Анненского, отнюдь не упускал из виду обличительный потенциал произведения. Его интерпретация обладала большой энергией социальной критики и в этом смысле была близка свободолюбию Художественного театра.

«Гамлет». Дух (Тень отца Гамлета), 1910
Крэг говорил: «Вся трагедия Гамлета это его одиночество. А фон для этого одиночества — «двор», мундирный мир... И в этом золотом дворе, мундирном мире не должно быть разных индивидуальностей, как это было в реальной пьесе. Нет, тут все как бы сливается в одну массу. Отдельные лица, как у древних мастеров живописи, должны быть закрашены одной кистью, одной краской»*. Эскиз «золотой пирамиды», где безликая, шевелящаяся масса придворных накрыта огромным золотым полотнищем и где две тупые фигуры короля и королевы, подобно древним идолам, возвышаются над покорной монолитностью мертвенной материи, — эскиз этот, проникнутый презрением к величию монархии, сразу же пленил Станиславского.
Более трудным было для Станиславского предложение вовсе отказаться от показа «отдельных лиц», «разных индивидуальностей». По Крэгу все они — чаще всего фантомы, и Гамлет — в «бедламе нелюдей». Станиславскому казалась совсем не простой задача «по всей пьесе найти тон для материи и тон для духа», ибо то, что Крэг называл «грубой материей», в его воображении все-таки распадалось на жизнь отдельных и особенных людей, объективировалось, складывалось из их нравов, побуждений, намерений, поступков. Принцип восприятия трагедии «глазами Гамлета» был ясен Станиславскому в эпизодах, где Гамлет присутствует, находится на сцене и — неясен в ситуациях, где Гамлет лично не участвует. Станиславский допытывался: как публика должна смотреть на остальных персонажей, когда Гамлета на сцене нет: «глазами Гамлета или своими глазами?» Он-то считал, что лучше бы «в картинах, где Гамлет не участвует, показывать действующих лиц не через зрение Гамлета, а реально, как они существуют на самом деле».
Чтобы избавить Станиславского от подобных сомнений, Крэг готов был даже пойти на то, «чтобы во всех картинах, всегда, по всей пьесе, на сцене был Гамлет, где-то в отдалении, лежащий, сидящий, впереди действующих лиц, сбоку, сзади, но чтобы зритель никогда не терял бы его из виду». Нельзя сказать, что Крэга это очень уж прельщало, вообще-то он предпочел бы обойтись без «слишком педантичной последовательности», без постоянно мыкающейся по сцене фигуры принца. Но Станиславский часто спрашивал: «А не спутается публика?» На что Крэг безмятежно отвечал: «Не думаю... А вы?» — т. е. давал понять, что если «не спутается» режиссер, то и публике все будет ясно.
Станиславский рекомендовал осторожность и умеренность: «Если вы вашу идею будете проповедовать всю сразу, вы только оттолкнете публику от себя и тем отодвинете продвижение вашей теории в жизнь». Крэг упирался: «Я совершенно не верю в постепенность, думать вы можете хоть 2000 лет, но показывать надо именно то, что вы думаете, сразу и вполне ясно и определенно».
Вчитываясь в записи их диалогов весны 1909 г., отчетливо видишь, что Станиславский полностью принимал концепцию Крэга, однако считал ее слишком ошеломляющей, способной если не испугать, то озадачить зрителей. И обнаруживал нескрываемое желание то тут, то там умерить новизну, сгладить остроту, притормозить поспешность крэговской мысли. Отчасти его тревоги были вызваны тем, что замыслы Крэга с трудом поддавались переводу на язык новой, вырабатываемой Станиславским методологии актерского творчества.
Оба режиссера верили в возможность слияния их новаций, предвидели в перспективе некую идеальную эстетическую общность. Крэг не сомневался в том, что открыл универсальную и мобильную сценическую структуру, способную преобразить искусство театра сверху донизу. Станиславский был убежден, что вплотную подошел к тайне новой — и тоже универсальной — внутренней актерской техники. Хотелось верить, что притязающая на всеобщность сценическая форма Крэга с готовностью примет всемогущую методологию актерского творчества, выработанную Станиславским. Впоследствии, десятилетия спустя, эти надежды оправдались. Но тогда — во время совместной работы над «Гамлетом» — обе новые концепции еще очень далеко друг от друга отстояли, и не так-то просто было их совместить.
Новаторская художественная идея, резко отвергая непосредственно ей предшествующие формы и нормы, чаще всего стремится увидеть свой прообраз и идеал в более отдаленной, забытой современниками традиции. Даже тогда, когда дерзко провозглашается девиз «новое ради нового» (Станиславский такой девиз провозгласил), новаторство вольно или невольно обращается к эстетическим ценностям, в прошлом уже существовавшим, к истокам, к далеким образцам. Идеи Станиславского искали опору в искусстве Гоголя и Щепкина, идеи Крэга — в поэзии Шекспира и Блейка. В непосредственное и острое соприкосновение вступали, следовательно, две обновленные, но совершенно различные национальные традиции, и это обстоятельство неотвратимо давало себя знать.
А кроме того, обе эти театральные идеи были по-разному соотнесены с новой драматургией, которая стилистически доминировала в европейском репертуаре на рубеже XIX—XX вв. Если в России, как считает Б. Зингерман, «формирование новой театральной системы было связано главным образом с постановками пьес Чехова и Горького»49, то театральная концепция Крэга не испытывала влечения к «новой драме», будь то Ибсен или Чехов, Гауптман или Метерлинк, Стриндберг или Гамсун. Напротив, она от этой драматургии открещивалась и отворачивалась. Выше уже замечено, что когда Крэг ставил Ибсена, он обычно избирал пьесы, где сам Ибсен «шекспиризировал», и он еще усиливал эту «шекспиризацию».
Первый опыт соединения двух генетически различных и абсолютно несхожих в восприятии «новой драмы» театральных концепций не мог пройти без неизбежных разногласий. В диалогах Крэга и Станиславского поминутно вспыхивала полемика.
Согласно старинной пословице, тот, кто приходит вовремя, приходит слишком рано. Так — вовремя и слишком рано — явился в Московский Художественный театр Крэг. К счастью, Станиславский это прекрасно понимал, потому-то и говорил, что Крэг «опередил век на полстолетия», потому-то и старался, подчас перебарывая себя, свои убеждения и предубеждения, Крэга понять, крэговские идеи переварить и усвоить. В свою очередь, и Крэг, ощущая остроту ситуации, готов был искать приемлемые компромиссы. Постепенно, не без труда, они продвигались навстречу друг другу.
Гамлет в понимании Крэга выглядел воплощением «стремительности и справедливости», идеальным героем, «лучшим из людей». Это сперва смущало Станиславского. «Я думаю, — говорил он, — что герой правдоподобен только когда он имеет какие-нибудь человеческие слабости и недостатки... Ничего не может быть хуже героя без недостатков. Это будет только идея, а не образ». Крэг возражал: «Я не согласен... Эта пьеса именно только идея. И все искусство только идея». Станиславский приводил в пример свою знакомую, «святую женщину»: она-де «человек без маленьких пороков», и это «ужасно». Он спрашивал: «А разве вы любите людей без слабостей?» «В искусстве — обожаю», — отвечал Крэг и называл дантовскую Беатриче.

«Гамлет». Похороны Офелии, 1910
О роли Гамлета и впоследствии дискутировали много. Но в этом пункте Станиславский Крэгу уступил: никаких «маленьких пороков» и «человеческих слабостей» в Гамлете впредь не искали. Дольше спорили о том, как подавать персонажей, враждебных Гамлету. Станиславскому хотелось показать их образы в развитии, в движении от первого вполне благоприятного впечатления к последующему раскрытию их «ничтожества». Беседуя с актерами незадолго до второго приезда Крэга в Москву, Станиславский говорил, например, что Полоний «в приятной комнате Офелии с цветами» должен предстать как «обворожительный, добрый отец, громадный умница, заботливый, любящий». Только позднее, в дворцовых сценах, он «становится шутом»50. Но Крэг, как только приехал, заговорил о Полонии иначе, никакой «приятной комнаты с цветами» знать не хотел, «громадным умницей» Полония — хотя бы и в начале пьесы — не видел, а видел только, что Полоний — «удивительное ничтожество». Крэгу нужно было, чтобы сценическое существование властителей Эльсинора производило «впечатление жизни животных. Публика, — пояснял Крэг, — смотря на этих лиц, должна говорить: неужели это люди, а не животные? Король — крокодил. Полоний — жаба. Розенкранц и Гильденстерн — хамелеоны». В другой раз, рекомендуя дать Полонию «зеленую одежду», Крэг сказал, что «Полоний бестолковый, похож на старую лягушку в пруду», что Розенкранц и Гильденстерн — «образованные дураки» и «свиньи». «Хамелеоном» тотчас оказался Озрик: «У него, — фантазировал Крэг, — выпученные глаза. Вообще голова его похожа на голову Смерти».
Станиславский предлагал играть все эти роли «вполне реально, до пошлости», говорил, что они затем «должны слегка переходить в карикатуру», но оставаться в трагедийном регистре, отнюдь не срываясь в комедию.
Крэг, напротив, стремился к стилистическим перепадам, к крутым переходам от высокого к низкому — и обратно. Трагедия, какую он хотел поставить, грубости не страшилась. Все эти «жабы», «свиньи», «крокодилы» и «хамелеоны» в его композиции возникали как некие уродливые комки грубой материи, как мерзостные «пузыри земли». Ведьмы из «Макбета» несомненно были причастны к фантазиям Крэга: шутовство предполагалось зловещее, комическое смыкалось с ужасающим, ничтожное — с могущественным. Король Клавдий представлялся Крэгу «крокодилом», но он тотчас же напоминал, что в этом образе должна сквозить и «неземная мощь».
Вообще было бы опрометчиво думать, будто «жизнь животных», которая мерещилась Крэгу, превращала Эльсинор в замок, населенный ходячими «карикатурами». Крэг говорил только о тайной сути этих персонажей. «Я хотел бы, — объяснял он, — передать некоторое сходство с животными, чтобы на мгновение пришло в голову, глядя на Гильденстерна» — «Разве это не свинья?» или, глядя на Полония: — «Разве это не лягушка?» — конечно, чтобы это было едва намеком, чтобы это ощущение едва скользнуло в сознании зрителя». Крэг не намеревался противопоставить Гамлету кричаще-плакатные аллегории. Его замысел был и тоньше и сложнее: он имел в виду шекспировские шутовские мотивы, которые должны были время от времени врываться в трагедийное пространство. Кстати сказать, и в этом плане Анненский, сам того не зная, подошел очень близко к Крэгу. Размышляя о «двоемирии» трагедии, противополагая «лунный мир» Гамлета «солнечному миру» Эльсинора, поэт писал: «Если тот — лунный мир — существует, то другой — солнечный, все эти Озрики и Полонии — лишь дьявольский обман, и годится разве на то, чтобы его вышучивать и с ним играть»... Анненский вопрошал, может ли «реально существующее вызывать что-нибудь, кроме злобы и презрения, раз в его пределах не стало места для самого благородного и прекрасного из божьих созданий?»51
Вряд ли Станиславский читал статью Анненского, а если бы читал, то, конечно, удивился бы, что поэт ставит на одну доску не только Полония и Озрика, но и Полония и Офелию. В беседах Станиславского с Крэгом проблема Офелии оказалась едва ли не самой трудной: Станиславский не мог примириться с тем, что Крэг воспринимает Офелию как «маленькое, ничтожное существо», видит ее «глупой и странной». Комментируя сцену в III акте, перед монологом Гамлета «Быть или не быть», Крэг утверждал, что Офелия тут — всего лишь «приманка», с помощью которой Клавдий и Полоний хотят выведать тайну Гамлета: «Она похожа на того несчастного поросенка, которого ставят на берегу Нила для ловли крокодилов. Она действительно жалкая девушка». Станиславский ужасался и предостерегал Крэга: «Не боитесь ли вы, что публика, привыкшая видеть Офелию симпатичной, увидя ее глупой и неприятной, скажет, что театр изуродовал Офелию? Не надо ли это сделать поосторожнее?» Крэга «осторожность» не прельщала, а публика не пугала. Он ни в коем случае не хотел Офелии «прекрасной, чистой, возвышенной, как это делают обыкновенно». Станиславский ссылался на неведомого Крэгу Белинского: русский критик «считает ее поэтичной». Крэг ссылался на неведомого Станиславскому Джонсона: английский критик убежден, что она «с детства глуповата». Станиславский говорил: принизить Офелию — значит принизить и Гамлета, ибо Гамлет ее любит. Нет, возражал Крэг, Гамлет любит не Офелию, а «только свое воображение», только «воображаемую женщину». Да и вообще любовь к Офелии в этой трагедии не так уж существенна: «слишком много важности придают этой любви», ведь Гамлет — «совсем не Ромео».
По мысли Крэга, Офелия становится поистине близка и дорога Гамлету только после того, как она теряет рассудок: безумие выводит ее из мира прозаической, низменной жизни в мир высокой поэзии. И в сцене безумия она «уже не та дурочка, как раньше, — с этого момента она начинает быть содержательной и интересной».
По этому поводу Станиславский и Крэг так и не смогли сговориться.
Но другие, не менее радикальные предложения Крэга были без всяких оговорок приняты Станиславским еще весной 1909 г. Никаких возражений не вызвала идея Крэга начать спектакль без занавеса, в полутьме. Как только Крэг рассказал, как видится ему явление Духа (т. е. Тени Отца Гамлета), Станиславский вскричал: «Браво! Браво! Очень хорошо здесь почувствована вами по-режиссерски красота этой сцены». Всю крэговскую экспозицию трагедии Станиславский собственноручно — и самым подробным образом — записал**.
Совершенно неожиданное крэговское решение монолога «Быть или не быть» (согласно которому к Гамлету то приближается, то отдаляется от него «золотая» или «золотистая» девушка-Смерть), решение, обычно комментируемое историками МХТ как «неприемлемое» и «чужеродное» для Станиславского, действительно сперва, во время беседы 16 апреля 1909 г., вызвало у него изумленную реплику: «Это другая пьеса». Однако уже через месяц, 17 мая 1909 г., в ответ на слова Крэга, который сомневался, позволит ли техника сцены создать призрачную фигуру Смерти, Станиславский довольно уверенно заявил: «Я надеюсь, что ее можно будет сделать». Потом, после многих попыток и проб, он от этой идеи отказался. Но всю жизнь у Станиславского в кабинете висел подаренный Крэгом эскиз «Гамлет и Смерть». Он очень дорожил этим рисунком, который поныне находится в его Доме-музее.
Какова была общая атмосфера бесед Крэга и Станиславского весной 1909 г., видно из письма, посланного Крэгом старому другу Мартину Шоу: «Быть может, мне это снится, старина, но я чувствую себя на небе после нескольких лет ада... Это живо напоминает божественные перселловские дни, лучшее изо всего, что я испытал в жизни»52. Крэга радовало понимание, с которым Станиславский встречал издавна выношенные им проекты. Полемика его не смущала: Крэг сознавал, что многие его предложения далеко не бесспорны. Почти все проблемы, вызывавшие дискуссии, постепенно прояснялись. Одна только проблема не прояснялась, а наоборот, день ото дня усложнялась и затемнялась. Эта мучительная проблема связана была с «системой» Станиславского.
Станиславский, приступая к «Гамлету», верил, что шекспировская трагедия послужит огромной лабораторией для экспериментальной проверки новой «грамматики» актерского мастерства. Крэг сперва никаких возражений против этих его планов не выдвигал. 21 апреля 1909 г. Станиславский писал сыну, что объяснял свои «круги» и «стрелы» Крэгу и Дункан, заранее опасаясь их иронии и насмешек, а вышло иначе: «ей и Крэгу эта теория, больше всех наших артистов, оказалась интересной и полезной. Это меня очень ободрило»53.

Гамлет и Смерть («Быть или не быть»), 1909
«Наши артисты» тут упомянуты недаром: в труппе МХТ к «теории» Станиславского относились скептически, многим казалось, что странные причуды «К. С.» только замедляют и усложняют процесс репетиций. Актеры, которые соглашались превратиться в его «подопытных кроликов», тотчас же становились любимцами К.С. В эту пору доверие Станиславского легче всего было завоевать, выразив восхищение «системой». Иные актеры расчетливо этим пользовались. О. Гзовская, например, объявила себя энтузиасткой новых методов, клялась и божилась, что ей не нужны никакие сценические успехи, только бы приобщиться к «теории». «Ролей не требует, готова быть хоть статисткой»54. Станиславский принял ее фразы за чистую монету, добился, вопреки сопротивлению Немировича, перевода Гзовской из Малого театра в труппу МХТ, и хотя она «ролей не требовала», вскоре отнял у Коонен роль Офелии и отдал ее Гзовской.
То, что Крэг «системой» заинтересовался, было, разумеется очень важно для Станиславского. Еще больше он обрадовался, когда Крэг беспрекословно согласился на предложенное им «разделение труда»: сам Станиславский возьмет на себя работу с актерами, Крэг будет выстраивать форму спектакля — от декораций до мизансцен.
Впоследствии некоторые историки МХТ такой метод строго осудили, причем виновным в их глазах оказался Крэг. Биограф Станиславского Е.И. Полякова излагала дело так: англичанин будто бы не скрывал «своей нелюбви к работе с актерами» и потому охотно передоверял ее «Станиславскому, Сулержицкому — кому угодно из тех, кого он осчастливил знакомством со своим замыслом»55. Иронический выпад против Крэга неожиданно больно задевает Станиславского, ибо выходит, что Станиславский — «кто угодно», случайно подвернувшийся под руку человек, на плечи которого Крэг свалил «черную работу». Между тем разделение труда было продиктовано Станиславским, а не Крэгом, и объяснялось двумя простыми обстоятельствами: Крэг не знал русского языка (а репетировать с переводчиком, мягко выражаясь, неудобно), Станиславский же в тот момент больше всего на свете интересовался именно работой с актерами, проверкой и шлифовкой «грамматики».
Кстати говоря, Крэг не предполагал, что ему не позволено будет общаться с исполнителями. Еще в Петербурге он выразил желание побеседовать с участниками спектакля, но Станиславский эту просьбу отклонил, лучше, сказал он, «до времени скрывать от актеров» режиссерские намерения. Когда же они перебрались из Петербурга в Москву, и Крэг спросил, как будут вестись репетиции, Станиславский ответил: «роли — здесь» (и описал рукой круг, охвативший его самого и Крэга), «а актеры — там» (и другой рукой указал куда-то вдаль)56. В 1909 г. фактически выполнялся только первый пункт программы («роли — здесь»), т. е. шло обсуждение, «обговаривание» ролей двумя режиссерами. Из актеров присутствовал один В.И. Качалов.
Следует иметь в виду, что конкретные задачи, которые ставили перед собой Крэг и Станиславский в их общей работе, совпадали не полностью. Крэг видел в близкой перспективе одну цель: создание идеальной постановки «Гамлета». Вопросы вооружения труппы МХТ новой актерской техникой занимать его не могли. А Станиславский, репетируя «Гамлета», видел в более отдаленной перспективе торжество «системы», он школил актеров во имя «Гамлета», но не только во имя «Гамлета»: прежде всего — во имя внушения им своей «грамматики».
По словам Станиславского, они с Крэгом оба не выносили «ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни крашеных лиц, ни зычных голосов»57 — т. е. были совершенно солидарны в неприятии актера старого типа.
Крэг, однако, созидая временную и пространственную структуры, не адекватные реальному времени и пространству, а соотнесенные с ними метафорически, предполагал, что и духовная жизнь сценического героя точно так же не может быть вполне адекватна духовной жизни актера, пусть даже и попавшего как бы «в те же обстоятельства», пусть даже сполна в них уверовавшего. По Крэгу, необходима иная система соответствий. Сценическое поведение диктуется не способностью актера вообразить себя в обстоятельствах, с которыми сталкиваются Гамлет, Ромео или же Лир. Сценическое поведение должно сообразовываться с особенностями экстраординарной сценической, а не ординарной жизненной структуры, обязано ориентироваться не на житейский опыт, не на логику психологической нормы, а по компасу высшей, надличной трагедийной закономерности.
Ведь герой трагедии — античный, шекспировский, расиновский — всегда находится в тисках железной необходимости. Свобода воли трагического героя двойственна, его деяние есть преодоление и превышение личных возможностей. Он — выше себя. Поэтому Крэг хотел высвободить актера из-под власти мелких и случайных эмоций, вывести его за пределы узко личностного, частного, индивидуального. Акцент переносился с побуждения (смутного, трудно уловимого) на движение (определенное и ясное), с импульса на осознанную мысль, с общедоступного чувства на страсть, владеющую трагическим Героем. С точки зрения Крэга, непрерывность, текучесть сценического существования актера в образе была и необязательна, и ненадежна. Крэг верил в другое — в способность актера овладеть ударными моментами роли, закрепить их интонационный и пластический рисунок, дабы снова и снова — на каждом представлении — эти моменты с нарастающей силой и страстью повторять.
Станиславский же добивался полной естественности и непрерывности актерского переживания на всей дистанции роли, проникновения в сокровенную суть отдельного человеческого «я», чье сценическое существование складывается из вереницы мельчайших, друг с другом смыкающихся, друг в друга переливающихся «хотений». Верно угаданный импульс значил для него больше, нежели идея, которой одушевляем герой. В центре его внимания была психология. Обобщающая мысль как бы выносилась за скобки: предполагалось, что правда психологии сама собой выведет на высоту идеи.
И Крэг и Станиславский, говоря об актере, охотно апеллировали к авторитету Гамлета, к советам, которые принц дает странствующим комедиантам. «Все то, что Гамлет говорит актерам, — это и есть моя система», — часто повторял Станиславский, напоминая слова Гамлета: «во всем слушайтесь внутреннего голоса». Крэг напоминал другой гамлетовский наказ: «двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям», говорите «легко и без запинки». Станиславский цитировал: важно, «чтобы это не выходило из границ естественности». А Крэг, вполне соглашаясь и с ним и с Гамлетом, что не надо «рвать страсть в клочья», подчеркивал слова принца о назначении театра: «показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости».
Оба хотели, чтобы высшая, вечная, сверхличная правда идеи трагического поэта была мощно подтверждена актерской игрой. Но шли к этой цели разными путями. А потому постоянно упирались в простейший вопрос: с чего начинать работу с актером, с внешнего (жест, поза, интонация) или с внутреннего (переживание, чувство)? Станиславский был твердо убежден, что «жест есть рефлекс чувства» и что, следовательно, только верный «внутренний голос» может подсказать точный жест, точную интонацию. Движение — всякое движение актера на сцене — на данном этапе его исканий представлялось ему вообще не очень-то желательным. Поэтому, в частности, он возражал против открытого монолога. «Я нашел возможность, — сообщал он Крэгу, — жить разными чувствами без движений, и только потому, что я очень внимательно смотрю в лицо, которому говорю. Говоря же в публику, я в этих местах сейчас же терял переживание и начинал представлять. И в сильных местах не мог удержаться от движения».
Выходило, что движение — симптом дурной, чуть ли не обязательный признак «представления». Крэг спорил: «Это очень плохо, что вы удерживались от движения»... Станиславский настаивал: «Если вам нужно движение — ищите его у актера через душу».
«Между нами, — резюмировал Крэг, — та разница, что для вас важнее не как играть, а что играть, а я, наоборот, как, а не что, для меня стиль важнее».
Рассуждений о стиле Станиславский избегал. Но в процессе обсуждения почти каждого эпизода он постоянно склонял Крэга к сидячим мизансценам, то и дело спрашивал: «Можно ли им начать переживать и позволить им садиться по временам?» Крэг иногда соглашался: «Это как вы найдете лучше», однако чаще испуганно возражал: «В предыдущей сцене уже сидели!» Он никак не мог уразуметь, почему для Станиславского «переживать» и «садиться» — чуть ли не синонимы. Он вообще полагал, что в трагедийном спектакле подолгу рассиживаться некогда и не следует.
Перечитывая записи бесед, поражаешься, как часто — и под любым предлогом — Станиславский подсказывал все одно и то же: «Чтобы сцена прошла легко и мало останавливала на себе внимание, нужно как можно меньше двигаться. Хотелось бы для этого их всех посадить»... «Вы хотите, чтобы действующие лица в этом акте все время стояли. Я хотел бы сказать вам, что сидя — позы богаче». «Хотите ли вы, чтобы мы представляли, или переживали тончайше?» — спрашивал он. «Конечно, не играть, а переживать», — говорил Крэг. «Тогда, — мгновенно подхватывал Станиславский, — нужно было бы почаще сажать актера».
Чем настоятельнее Станиславский требовал сидячих мизансцен, тем резче Крэг от них отказывался. Он предлагал вести репетиции под музыку, дабы научить актеров ходить «грациозно», советовал тренироваться «в самой простой походке, простых поворотах». Нет, он нисколько не верил, что «переживание» само продиктует актеру требуемую форму. «Мы, — уговаривал он Станиславского, — никогда не добьемся от актера этих простых и богатых по фантазии форм. Не лучше ли пользоваться актером как полуинструментом или полудитём?» Несколько озадаченный Станиславский спросил: «Его душой, или его жестами?». Крэг пошутил: «У актера нет души». Станиславский промолвил: «Это большая ошибка». Тогда Крэг попытался перевести свой парадокс на язык здравого смысла. Он пояснял: надо добиться, чтобы актер уверенно пользовался «внешними заученными движениями», пластикой, мимикой, интонацией, чтобы актер был выразителен, тогда и заговорит «душа». «Разве это трудно?» — вопрошал он.
Ответную реплику Станиславского историки МХТ не цитируют. Своему собеседнику, кощунственно утверждавшему, что у актера «нет души», Станиславский сказал: «Вы слишком хорошо думаете об актерах».
Как ни странно, Крэг и в самом деле был тогда лучшего мнения об артистах МХТ, нежели Станиславский. Не доверяя актерской «душе», Крэг все-таки уповал на то, что актер сумеет «стать думающим существом»58.
Оптимизм Крэга понятен: в сравнении с теми английскими актерами, от которых он бежал, актерами, не помышлявшими ни о чем, кроме славы и больших гонораров, артисты труппы МХТ выглядели в его глазах настоящими идеалистами. Он рассчитывал на их самоотверженность, надеялся, что вместе со Станиславским сумеет приобщить их к шекспировской поэзии.
Понятен и пессимизм Станиславского, который знал, как трудно его интеллигентная и благородная труппа усваивает все новое и непривычное для нее, убедился уже в инертности своих актеров, даже лучших. В это самое время, писал он, «между мной и труппой выросла стена». Он тогда упрекал актеров МХТ «в косности, рутине, неблагодарности и измене»59.
Вопрос о возможностях актеров, о их подвижности, музыкальности, пластичности неизбежно возникал и в связи с чрезвычайно волновавшей Крэга проблемой звучания шекспировского стиха. Когда Станиславский с болью поведал Крэгу о том, какая неудача постигла его в трудной работе над пластической формой «Драмы жизни», Крэг тотчас же сказал: «Но это было в прозе. Не было необходимости такой игры, раз это было не в стихах». Станиславский несколько растерянно промолвил: «Да, но это была отвлеченная вещь»... Крэг ответил еще категоричнее: «Это мне совершенно все равно... Если бы это была поэма, тогда понимаю».
Композиция трагедийного спектакля требовала пристального внимания к стиху, и потому Крэг часто заговаривал о том, как должны звучать и взаимоотноситься между собою голоса, как следует акцентировать рифмы, какие строки в том или ином монологе надлежит подать сильно и внятно (ибо они «выражают важную мысль»), а какие строки, наоборот, могут быть произнесены «больше как музыка, так, чтобы в звуках растворилась мысль».
Внимание Станиславского сквозь текст внедрялось в подтекст; устремлялось к тому, что он называл «скрыванием чувств». Важнее всего, считал он, выявить «скрытую суть» монологов и диалогов, иначе «она затеривается в витиеватых выражениях, рифмах и скандированных размерах». Музыка стиха его не занимала, он уверял Крэга: «музыкальность исполнения» появится «сама собой» — «от переживания». А Крэг в это поверить не мог и говорил о другом — о ритме, о темпе, о звучании слова. «В Шекспире нет «подтекста». Все выражено словами слишком ясно. В современной пьесе атмосфера выражена тем, что между строк, у Шекспира только слова создают атмосферу».
Всякий раз, когда Крэг заводил речь о стихе, он, сам того не ведая, притрагивался к теме, мало приятной для Станиславского. В стенах МХТ принято было думать, что подчинение ритму стиха непременно влечет за собой «декламацию», а декламация уводит от жизненности. Работая в 1903 г. над «Юлием Цезарем» Шекспира, Немирович-Данченко старался вообще не обращать внимания на стихи. В 1906 г., репетируя «Горе от ума», Станиславский и Немирович пользовались курьезным изданием Озаровского, где текст комедии был напечатан сплошняком, «под видом прозы». По этому поводу Мейерхольд заметил: «Пришлось стихи говорить как прозу, чтобы внушить правдоподобность спектаклю»60. До какой степени устойчива была уверенность деятелей МХТ, что стихи и правда несовместимы, видно из письма Немировича, датированного 1942 (!) г.: «В тысячный раз говорю, что всякое стихотворное произведение вредно для реального театра»...61 Станиславский, в отличие от Немировича, уже во второй половине 1910-х годов, после мучительной для него неудачи Пушкинского спектакля, понял, что «реальный театр» рано или поздно все-таки должен освоить технику произнесения стиха. Но в процессе подготовки «Гамлета» его интересовали совсем другие вопросы.
Тщетно Крэг уговаривал Станиславского: «Если актер будет меньше думать о содержании, а больше о музыке стиха, то Шекспир ему только поможет». Станиславский с головой погружался в то, что Крэг здесь называл «содержанием»: в состав эмоций, в их оттенки и переливы.
Мало-помалу прежняя заинтересованность Крэга «системой» сменилась недоверием к ней. «Ваша ошибка в том, — откровенно сказал он, — что вы хотите работать с людьми по системе. Надо иметь влияние, что хотите, но не работать по системе». На это Станиславский отвечал: «Моя система вся на гипнотизме. Самое главное выучить актера идти на сцену и ничего не думать. Это самое трудное. Когда это есть, я могу с ним делать, что угодно, но не раньше». Ссылка на «гипнотизм» удивила Крэга. «Может быть, может быть»... — пробормотал он. И упомянул о йоге.
Комментаторы трудов Станиславского давно установили, что многие термины, которые он применял (в том числе, например, «лучеиспускание»), заимствованы из книг известного французского психолога Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве создателя «системы» со старинной индийской йогой, с методами «самопознания» и «самоосвобождения», выработанными этой религиозно-философской школой еще во II в. до н. э.*** Сам Станиславский этого не скрывал. «Индусские йоги, достигающие чудес в области под- и сверхсознания, дают много практических советов», — писал он. Йоги «подходят к бессознательному через сознательные подготовительные приемы»62. Йогой навеяны слова Станиславского о «неразрывной связи физического ощущения с душевными переживаниями». Связь была очевидна, весь вопрос опять же состоял в том, с чего начинать: с «физического ощущения» или с «душевного переживания»?
Станиславский спрашивал себя: «нельзя ли подойти к возбуждению эмоций со стороны нашей физической природы, то есть от внешнего к внутреннему, от тела к душе»?63 Данная запись относится к 1911 г., и потому можно предположить, что в ней сказалось влияние Крэга, ибо Крэгу такой путь — «от тела к душе» — представлялся единственно практичным. Но и в 1909 и в 1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: «от души к телу», от подсознания — к сознанию, от внутреннего к внешнему. Верно направленное «духовное переживание» («стрела»), полагал он, высвобождает «прану», т. е. мышечную энергию, сопутствующую как «лучеиспусканию», так и «лучевосприятию» и придающую чувству пластическую форму.
Крэг, который давно интересовался Востоком, его ритуалами, масками, магией и философией, хорошо знал йогу и сразу догадался, где Станиславский нашел свой «гипнотизм». Говоря о «влиянии», Крэг разумел влияние режиссера на исполнителей. А «гипнотизм» Станиславского предполагал в первую очередь (это ясно из приведенных выше записей М.Г. Савицкой) взаимовлияние актеров — партнеров. Кроме того, ссылки на «гипнотизм» не разрешали важнейшую для Крэга проблему: как будет произноситься и звучать текст трагедии?
Еще до начала репетиций с актерами Станиславский охотно продемонстрировал Крэгу все известные в ту пору навыки сценической речи. По его собственным словам, он «читал Крэгу сцены и монологи из разных пьес на разные манеры и с разными приемами игры», показывал ему «и старую французскую условную манеру, и немецкую, и итальянскую, и русскую реалистическую, и новую, модную в то время импрессионистическую манеру игры и чтения. Ничто не нравилось Крэгу. Он протестовал, с одной стороны, против условности, напоминавшей обычный театр, а с другой стороны, не принимал обыденной естественности и простоты, лишавшей исполнение поэзии. Крэг, как и я, хотел совершенства, идеала, т. е. простого, сильного, глубокого, возвышенного, художественного и красивого выражения живого человеческого чувства. Этого, — вспоминал Станиславский, — я дать ему не мог».
К такому выводу он пришел, однако, только спустя полтора десятка лет, оглядываясь в прошлое. А в 1909—1910 гг. Станиславскому казалось, что его «система» уже обрела «полноту и стройность», что «идеал» достижим и что «совершенство» ему доступно. В процессе работы над «Гамлетом» Станиславский поставил перед собой задачу, по современным ему понятиям эстетически парадоксальную: он, как явствует из его собственных слов, пытался добиться простоты в исполнении возвышенного, подать исключительное, героическое и даже сверхъестественное как естественное, психологически мотивированное. Ему казалось, что вполне возможно «жить в шекспировской пьесе так же естественно, как в пьесах Чехова»64.
Эта идея была провидческой, на десятилетия опережавшей время. Возможность сыграть Гамлета «от первого лица», от собственного имени, при условии, что роль принца датского вверяется актеру, обладающему богатым духовным миром и способному подняться на трагедийные высоты, ныне уже доказана практически и неоднократно. Так — «от себя» (но и от имени целого поколения), вполне естественно — играли Гамлета и Пол Скофилд в постановке Питера Брука, и Владимир Высоцкий в постановке Юрия Любимова.
А как же, спросят нас, крэговское требование дотянуться до роли? Оно-то и осуществлялось в момент, как только Скофилд или Высоцкий принимали на себя тяжкое бремя трагедии. Оба играли «от себя» — по Станиславскому, но и сверх этого, «сверх себя», отдавая свое «я» во власть трагической поэзии — по Крэгу. В пору, когда над «Гамлетом» работали Крэг и Станиславский, такой техники игры, включающей «я» и «не я», «здесь и везде», еще не ведали.
Более того, Станиславский и сам испытывал известную робость, выдвигая свои требования. Ему представлялось, что добиться цели можно только в результате кропотливой, чуть ли не ювелирной по тонкости работы с человеческим материалом актера, потому-то он и дробил текст трагедии на мельчайшие частицы, на половинки реплик и четвертинки пауз. Вся эта разметка по «хотениям», «лучам», «стрелам» и «кругам» должна была проводиться за столом, до начала репетиций на сцене. Крэг уже весной 1909 г. недоумевал, почему Станиславский не переходит на сцену. Черепашьи темпы занятий по «системе» его никак не устраивали: он-то привык работать иначе, он даже и вообразить не мог, что пьесу, пусть даже и самую гениальную, пусть даже и с надеждой создать совершенно экстраординарный спектакль, можно репетировать столь долгое время. (В летописях МХТ и до «Гамлета» отмечены случаи, когда количество репетиций переваливало за сотню — «Борис Годунов», «Синяя птица», например. Но уже ясно было, что «Гамлет» побьет все рекорды.) Как ни радовала Крэга атмосфера собеседований со Станиславским, все же эта медлительность его пугала, он опасался, что к премьере актеры выдохнутся, утратят остроту восприятия трагедии.
В начале июня 1909 г. Крэг покидал Москву со смешанным чувством: он восхищался Станиславским, его грандиозным талантом и его смелостью, но испытывал уже нескрываемую антипатию к «системе».
Крэг давно мечтал о создании собственной школы, где будущие актеры обучались бы по разработанной им программе. Методы воспитания и тренажа были основательно обдуманы: предусматривались занятия гимнастикой и акробатикой, музыкой, сценической речью, опыты импровизации, уроки работы в маске. Поскольку Крэг верил в способность актера стать «думающим существом» и всегда надеялся на актерский талант, постольку он считал, что школа может и обязана преподать актеру умение свободно управлять своим телом, лицом, голосом, т. е. вооружить его пластическим и интонационным мастерством, воспитать и обострить его чувство темпа и ритма. Затем, уже не в школе, а в театре, режиссер-постановщик должен конкретно и точно продиктовать актеру линию его сценического поведения на протяжении спектакля. А все остальное, т. е. собственно игра — уже дело самого актера, его интуиции, возбудимости, фантазии. Споры со Станиславским в процессе работы над «Гамлетом» только укрепили Крэга в уверенности, что психологическая разработка роли в соответствии с жизненной логикой и в надежде разбудить актерское подсознание, не высвобождает, а, напротив, тормозит самостоятельное творчество актера. Новый театр, по мысли Крэга, должен был стать результатом совместных усилий актеров — самостоятельных творцов, объединяемых и вдохновляемых режиссерской волей.
На деньги, заработанные в Москве, Крэг арендовал во Флоренции небольшой амфитеатр под открытым небом, построенный в начале XIX в. Амфитеатр назывался «Арена Гольдони», это наименование Крэг дал и своей школе, которая, однако, открылась только в 1913 г. и просуществовала всего один год — до начала первой мировой войны. Здесь-то, на этой арене, он и репетировал в 1909 г. монологи Гамлета.
Между тем в Москве, как только Крэг уехал, о «Гамлете» словно бы позабыли. После обычного летнего отпуска Станиславский с головой окунулся в работу над тургеневским спектаклем «Месяц в деревне», И во время репетиций тургеневской пьесы радостно уверился, что его «система делает чудеса», что наконец-то «и вся труппа на нее накинулась». Сидячие мизансцены и «безжестие» в «Месяце в деревне» вполне себя оправдали. Станиславский сообщал Н. Дризену, что мизансцены «не будет никакой. Скамья или диван, на который приходят, садятся и говорят»65. Тут все пришлось кстати — и «круги», и «хотения». Премьера тургеневского спектакля имела большой успех.
15 февраля 1910 г., когда Крэг в третий раз приехал в Россию, Станиславский первым долгом с большим темпераментом прочел ему нечто вроде лекции о «системе», о том, как она усовершенствовалась и какие прекрасные результаты дает. Крэг выслушал его с полным вниманием и в своей записной книжке отметил, что «многое интересно в новых идеях Станиславского», но все-таки остался при своем: «подход к актеру со стороны подсознания» он по-прежнему считал «неправильным и непрактичным»66. А Станиславский и позднее пребывал в надежде внушить Крэгу доверие к «моей системе, которая, — писал он, — Вам все еще не нравится, но которая отвечает Вашим целям лучше, чем что-либо другое»67.
Сохранился любопытный документ: опубликованная Крэгом в «Маске» в 1915 г. его якобы «непроизнесенная речь» к артистам Художественного театра. В журнале Крэг датировал это обращение 1909 г. Скорее всего, однако, дата эта вымышленная и форма воображаемой речи, по-видимому, сознательно придана более позднему сочинению. (Подобные мистификации и литературные шалости на страницах «Маски» нередки.) Можно предположить, что Крэг в данном случае ретроспективно, оглядываясь в недавнее прошлое, излагал свои возражения против «рассудочности» методов Станиславского, а также и против склонности актеров МХТ сбиваться на чеховский, тургеневский или ибсеновский тон. Он писал:
«Вы хотите понять и интерпретировать одно из гениальнейших произведений мира и поэтому вы должны приблизиться к гениальности. Вами должен овладеть экстаз. Вы должны дать себе волю... Рассудок здесь бессилен, он — ваша слабость. Только сила Воображения поможет вам. Если вы сможете сбросить оковы, душащие вашу свободу (а ваше воображение и есть ваша свобода), то вы сможете воспринимать сигналы моего воображения. Тогда мы сможем приступить к работе и разгадать ее тайны.
Если же вы останетесь в плену интеллекта или рассудка, то никогда не поймете меня и мы не сможем ничего достичь... Предшествующим опытом доказано, что Драматические Поэмы Шекспира нельзя ставить так же, как современные пьесы. Поэмы лишаются всех красок, если их играть как пьесы Ибсена или Чехова... Именно потому, что современные режиссеры и актеры пытаются превратить Драматические Поэмы Шекспира в пьесы характеров, результаты получаются плачевными. «Гамлет» состоит из Страсти... Стиля... Музыки... и Видения: но не из характеров». Крэг сомневался, сможет ли труппа, «поставившая в основу своих методов игры действительность, а не Поэзию и Воображение», достойно сыграть «Гамлета»»68.
Публикация данной «речи» спустя четыре года после премьеры московского «Гамлета» могла иметь только один смысл: печатая этот текст, Крэг хотел выразить неудовлетворенность игрой артистов МХТ. Такую же, если не более острую, неудовлетворенность испытывал и Станиславский: артисты МХТ, «научившиеся некоторым приемам новой внутренней техники, — сказано в «Моей жизни в искусстве», — применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара», но «не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем»69.
Впоследствии, размышляя об этой работе, П.А. Марков пришел к выводу, что чем более Станиславский «сгущал зерно образа и углублял его основные черты, тем актерская игра становилась тяжелее, теряла даже внешнюю ритмичность и зачастую приобретала чисто бытовую и грузную окраску»70.
Вскоре после того, как Крэг в третий раз появился на Камергерском, состоялись, наконец — 17 и 26 марта 1910 г., — две «общие беседы» о «Гамлете»: т. е. Крэгу была предоставлена возможность изложить замысел спектакля его исполнителям, актерам. Распределение ролей «Гамлета» опять переменилось. Короля должны были репетировать А. Вишневский, Л. Леонидов, В. Лужский, Н. Массалитинов, Гертруду — О. Книппер и М. Савицкая, Полония — А. Адашев, В. Грибунин, В. Лужский, И. Москвин, Офелию — А. Коонен, М. Лилина, В. Барановская, О. Гзовская, Горацио — Н. Массалитинов, Н. Знаменский, Н. Подгорный, Лаэрта — А. Горев, Л. Леонидов, С. Днепров, Р. Болеславский и т. д. Все это было намечено еще очень начерно — потому-то почти каждую роль поручали нескольким актерам, а одни и те же актеры примерялись к разным ролям. Но к этому моменту в работу над «Гамлетом» была вовлечена и собралась слушать беседы Крэга весьма значительная часть труппы МХТ. Судя по сохранившимся записям бесед (записывали Станиславский, К.А. Марджанов, Н.В. Петров), Крэг вдохновенно рассуждал о том, чего хотел бы добиться, какую предлагает интерпретацию трагедии в целом и образа Гамлета, в частности, но не касался ни сценической формы замышляемого спектакля, ни конкретных способов его создания. И все же многое в словах Крэга было ново и удивительно для артистов МХТ.
В 1909 г. Станиславский уверял Крэга, что «выгоднее не говорить актерам о намерении создать сильного Гамлета. Проходя всю пьесу психологически, устанавливая известные пункты в психологическом развитии, вы можете, — утверждал он, — установить эти пункты в такой гармонии пропорций, что он сам собою получится сильным. И только мы с вами будем знать о том, что Гамлет должен быть сильным. Иначе, если вы прямо скажете актеру о вашем намерении, он сразу придет на сцену с выпяченной грудью и крепким театральным голосом». Крэг тогда изумился: «Ха! Это ужасно! Вы еще более плохого мнения об актерах, чем я».
В 1910 г., однако, дерзкая идея дать «сильного Гамлета» была артистам сообщена. Крэг сказал; что надо «отойти совершенно» от скорбного Гамлета, «от этой мрачной фигуры со скрещенными руками», от «черного Гамлета», что главное в Гамлете — «духовное мужество», что нужен «Гамлет — герой». Гамлет — «один из сильнейших характеров, когда-либо нарисованных Поэтом: это лучший человек в мире, и это радостный человек с открытым лицом».
Вот в этом пункте — «чтобы достигнуть трагедии, нужно быть радостным» — Крэга не очень-то понимали ни Качалов, ни остальные актеры. Гораздо понятнее им было уподобление Гамлета Христу71. Итог двух его бесед можно кратко сформулировать так: артисты были заинтригованы, но и несколько озадачены, одни увлечены, другие смущены.
Станиславский же в этот момент никаких сомнений не ведал. За кратчайшее время он с невероятной энергией устроил и пустил в ход многосложный механизм подготовки спектакля. Весной 1910 г. в театре началась настоящая «гамлетовская лихорадка». Чуть ли не во всех помещениях здания на Камергерском закипела работа. Везде чертили, строили, перебирали ткани, кроили, шили, репетировали. «Столяры, костюмеры, актеры и рабочие сцены трудились не просто в гармонии друг с другом, — писал Крэг в своей «Маске», — но с таким энтузиазмом, с такой активностью, что, казалось, невозможно их остановить»72. Двигательным центром всей работы была мастерская Крэга. В это святилище допускались немногие: Станиславский, Сулержицкий и их ближайшие помощники. Крэг в 1910 г. соорудил новый, самый большой и наиболее совершенный макет оформления «Гамлета». Манипулируя системой ширм и передвигая на макете свои деревянные фигуры, он шаг за шагом, эпизод за эпизодом определял мизансценическую форму спектакля. Станиславский зарисовывал мизансцены и записывал все конкретные соображения Крэга, порой их оспаривая и совместно с Крэгом уточняя. Затем рисунки, сделанные Станиславским, передавались Сулержицкому, а тот, командуя целым штатом рабочих, двигал уже настоящие щиты на большой сцене МХТ. Он сделал серию специальных, похожих на огромные циферблаты, чертежей, где все 24 ширмы спектакля, расположенные по кругу, были пронумерованы с указанием их высоты и ширины и обозначением траекторий движения каждого из щитов в каждом из эпизодов.
Движение начиналось на макете и переносилось на планшет.
Сулержицкий занимался не одними ширмами. Сохранились его тетрадки с надписями: «Ширмы, кубы и пр.», «Декорации», «Свет», «Костюмы», «Образцы материй», «Вышивки» и т. д. — они показывают, как многочисленны были его обязанности и заботы. Кроме того, он вел еще и «Дневник репетиций», где отмечались все события, большие и маленькие, приключавшиеся с людьми и вещами по ходу все ускорявшегося труда.
Спектакль строился как готический собор, все театральные мастерские, не покладая рук, возводили это грандиозное сооружение, и Станиславский поспевал всюду. Он был поистине вездесущ: утром занимался покроем костюмов, отбором тканей, днем размечал для актеров «круги» и «стрелы», вечером вел запись мизансцен, вникал во все Мелочи. Кроме Сулержицкого ему в помощь был привлечен еще и К.А. Марджанов: «режиссерский штаб» увеличился. Но и проблемы возникали все новые, одна другой сложнее.
Больше всего забот и хлопот доставляли крэговские ширмы. Вопрос, из какого материала они должны быть изготовлены, после многочисленных проб решился еще в 1909 г. Соорудили железную ширму — чересчур тяжела. Сделали деревянную — тоже громоздкая. Хотели применить тростник или бамбук — не вышло. Ширмы, затянутые серым тюлем, Крэг забраковал: прозрачная ткань его не устраивала. В конце концов остановились на деревянных рамах, обтянутых плотным некрашеным холстом. Правда, писал Станиславский, «светлый фон мало соответствовал мрачному настроению замка. Но тем не менее Крэг остановился на этих ширмах, так как они принимали всевозможные цвета и полутона электрического освещения»73. К 1910 г. весь комплект ширм и кубов для «Гамлета» — 25 щитов и 30 кубов — был готов.
Но Крэга и Станиславского ожидал еще не один неприятный сюрприз. Сцена МХТ имела небольшой наклон по отношению к зрительному залу. Двигать щиты на наклонном планшете было невозможно. В мае 1910 г. Станиславский вызвал архитектора Ф. Шехтеля. Тот посоветовал сделать поверх планшета горизонтальный настил. Ширмы больше не падали. И все-таки менять их конфигурацию с необходимой легкостью и быстротой не удавалось. Для Крэга движение ширм на виду у зрителей, иногда в темноте, но всегда при открытом занавесе было «самой сутью» новой сцены, и он писал Станиславскому, что важнее всего — «ее способность с величайшей легкостью переходить от одной формы к другой». Он уповал: «тут-то Ваши механики могут оказать чрезвычайную помощь»74. Но «механики» МХТ ничего похожего на «величайшую легкость» не добились. Скрепя сердце, режиссеры в конце концов вынуждены были согласиться на пренеприятный компромисс: после каждой картины давали занавес и рабочие передвигали ширмы, затем занавес вновь открывался. Эта уступка причиняла им большие огорчения: оба видели, что ход спектакля понапрасну перебивается и замедляется, что «трагическая геометрия» Крэга, чреватая динамикой, предстает в невыгодном для нее статичном варианте****.
Серьезные затруднения возникали и потому, что процесс подготовки спектакля, столь тщательно организованный Станиславским, предусматривал — как обязательное условие — слишком большую дистанцию между работой по созданию пространственной формы, с одной стороны, и работой с актерами — с другой. В Музее МХАТ хранятся режиссерские экземпляры «Гамлета» 1910 г. В переводе А. Кроненберга кое-где сделаны изрядные купюры; в некоторых случаях взамен кроненберговского текста вставлены фрагменты из перевода К.Р. (вел. кн. Константина Романова). В этих режиссерских экземплярах запечатлено любопытнейшее и, может быть, уникальное в своем роде явление: одновременное движение режиссерских исканий двумя параллельными, не пересекающимися потоками. В одном случае рукой Станиславского (а иногда Марджанова) зафиксированы, вычерчены и перенумерованы все мизансцены Крэга, все предуказанные им передвижения актеров в строгом соответствии с перемещениями ширм. Тут же все указания о световых и звуковых эффектах, о моментах, где вступает музыка, об атмосфере каждого эпизода, о взаимоотношениях персонажей. В другом случае расчерченная Станиславским партитура трагедии дробит текст «Гамлета» на мельчайшие частицы, в каждой реплике и каждой паузе рука Станиславского обозначает бесчисленные «стрелы», «лучи» и «круги». Отдельные слова, кусочки фраз пронизаны Движущимися навстречу друг другу токами разнозаряженных «лучеиспусканий», «хотений», «волеизъявлений» и т. п. Испещренная такого рода знаками партитура обретает характер шифра, условного кода, по-видимому, до конца понятного только самому Станиславскому, который затем пользовался своей разметкой в процессе репетиций с актерами.
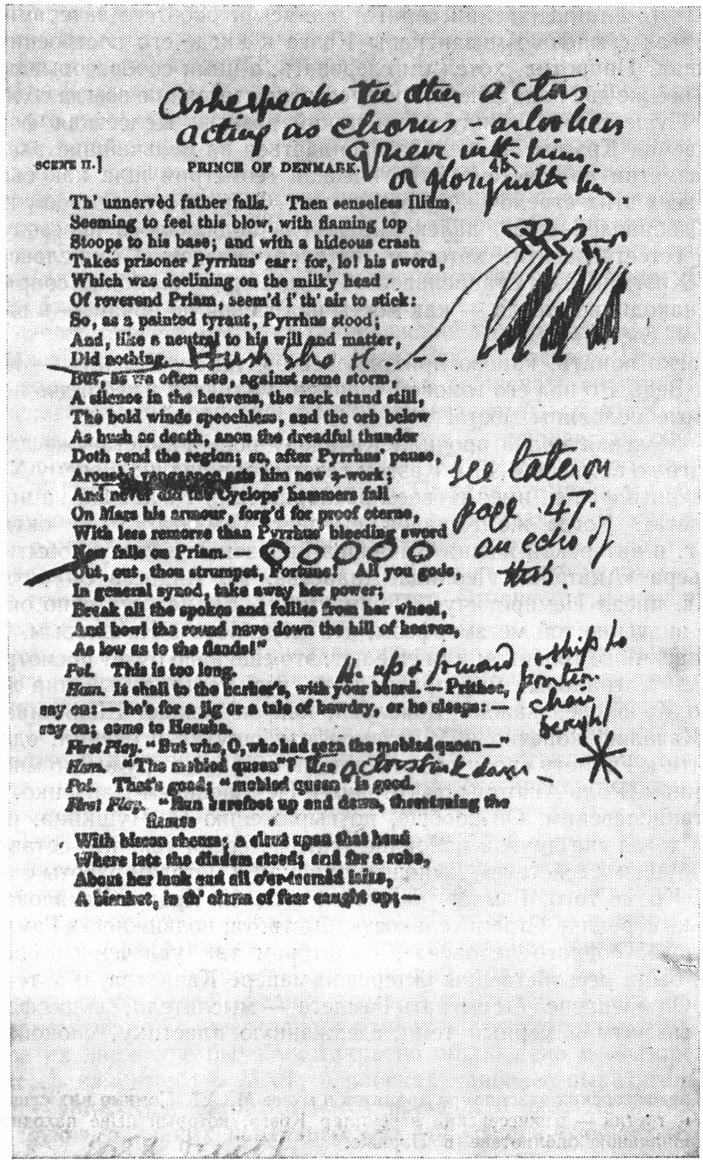
«Гамлет» МХТ. Страницы режиссерского экземпляра Крэга
Сопоставление двух этих режиссерских экземпляров5* убеждает в том, что Станиславский, приготовляясь к работе с актерами, не подвергал сомнению мизансцены Крэга и нигде его построения не нарушал. Напротив, хотел им следовать, с ними сообразовываться.
И все же два направления режиссерской мысли не всегда сближались. Существовал между ними некий разрыв. Целостная форма, созидаемая Крэгом, не желала распадаться на мельчайшие элементы разметки по «системе», трагическая геометрия шла как бы поверх всех этих стрелочек и кружочков. «Сверхъестественное», которого добивался Крэг, далеко не всегда поддавалось переводу на язык естественности, которым пытался овладеть Станиславский. Идеи Крэга и идеи Станиславского, ныне столь свободно сопрягаемые, находились тогда, — как мосты над Невой по ночам, — в разведенном состоянии.
Легко понять, каково приходилось будущему Гамлету — Качалову. Ведь это над его головой торчали, упираясь в небо, две несоединимые половины моста!
Московская молва прочила Качалову роль Гамлета уже давно. Задолго до встречи МХТ с Крэгом газеты вопрошали: «почему Художественный театр, имея в своем распоряжении Качалова, не играет «Гамлета»? Когда же Качалов сыграет Гамлета?»75) 2 октября 1909 г. в актерской жизни Качалова произошло важное событие — премьера «Анатэмы» Леонида Андреева. Л. Андреев 30 октября 1909 г. писал Немировичу: «По-видимому, Вы недостаточно оцениваете значение той метаморфозы, что случилась с Качаловым. Стал ли он великим трагиком или еще нет, это еще надо будет посмотреть, но весь театральный мир признал это, весь театральный мир жужжит о Качалове, жаждет Качалова, как он жаждет Шаляпина»76. Сам Качалов, конечно, эту метаморфозу ощутил и оценил, однако перейти к Гамлету сразу после Анатэмы ему было трудно по многим причинам. Роль Анатэмы он готовил с Немировичем-Данченко, а не со Станиславским. Он вообще, по выражению Н. Чушкина, находился тогда «на другой половине театра», среди тех, кто оставался равнодушен к «системе», к «новым приемам и методам работы с актером». Кроме того, Гамлет, каким он виделся Крэгу, Качалова несколько страшил. Стремительность, быстрота, подвижность Гамлета, «светлого, бодрого человека», о котором так увлеченно говорил Крэг, были несвойственны актерской манере Качалова, и актер это знал. Он предпочел бы сыграть Гамлета — мыслителя, философа, печальный ритм и мерный темп, сдержанную пластику, спокойные и достойные «размышляющие» позы. Напрасно режиссер его успокаивал: «В ваших ролях, которые вы создали, есть все черты, нужные для Гамлета. Вам только нужно отобрать ваш же материал». Качалов пребывал в растерянности, жаловался Крэгу: «Я пустой»77.
Когда Крэг в середине апреля 1910 г. уехал из Москвы, предполагая, что через три месяца вернется и что в ноябре состоится премьера, его, естественно, не могло не тревожить странное равнодушие исполнителя главной роли. Беспокоился и Станиславский. Уже через месяц во Флоренции Крэг получил от него письмо: «...приятный сюрприз — это то, что Качалов начал проявлять интерес к роли Гамлета»78. Строки удивительные, ведь Гамлет — обычно предел и венец актерских мечтаний. И тем не менее так оно и было: Качалов приближался к Гамлету боязливо.
В начале августа 1910 г. Станиславский тяжело заболел тифом. Его болезнь сломала все планы работы над «Гамлетом». Правление МХТ подумывало было вызвать Крэга и выпускать спектакль без Станиславского, но, опасаясь «смять самые заветные мечты К.С.»79, предпочло все же этого не делать. Пока Станиславский хворал, Немирович-Данченко поставил «Братьев Карамазовых» по Достоевскому. То был его величайший триумф. Прежде и труппа, и публика несколько недооценивали режиссерское дарование Немировича, теперь в него уверовали все. Станиславский, выздоравливая, горячо благодарил Немировича, который в трудную минуту не только выручил театр, но и укрепил его авторитет. Отношения между руководителями МХТ заметно улучшились.
Тогда же в письмах Станиславского вдруг проступило недоверие к Крэгу. В ноябре 1910 г. он поделился с Немировичем тревогой, «поймут ли гениальность Крэга и не признают ли его просто чудаком». В январе 1911 г. поручил Сулержицкому повидать Крэга в Париже и выяснить: можно ли по ходу спектакля расставлять ширмы, «ища общего настроения, а не придерживаясь пунктуально его макетов», можно ли «карикатурность» Эльсинора, короля, Офелии, Лаэрта «подать публике в несколько иной форме, т. е. более утонченной и потому менее наивной». Станиславский по-прежнему считал, что «сам Гамлет», каким его видит Крэг, «великолепен», но склонялся теперь к мысли, что замысел спектакля в целом «наивен», «опасен», страшился, что Крэга «не примет Москва»80.
Коррективы, о которых Сулержицкий должен был доложить Крэгу, предполагались радикальные. Разумеется, Крэга больно задело намерение Станиславского изменить расстановку ширм, ибо каждое их движение было многократно опробовано и оговорено с «режиссерским штабом» МХТ, в поисках наиболее выразительных конфигураций Крэг затратил массу времени и сил. Он изготовил даже сотни маленьких картонных макетов, фиксировавших все до единой «расстановки». Н.В. Петров писал: «Работа проделывалась огромная, если вспомнить, что один я выклеил для «Гамлета» сто сорок четыре макета. Это я запомнил точно»81. И вот весь труд Крэга с немыслимой для него небрежностью перечеркивался ради одного только «общего настроения». А новые расстановки ширм автоматически отменяли и нафантазированный Крэгом рисунок мизансцен.
Выслушав Сулержицкого, Крэг ничем свое разочарование не выдал, но как-то сразу словно бы охладел к любимому детищу. Сулержицкий докладывал Станиславскому: на все его вопросы Крэг кратко отвечал, «что во всем этом он доверяет Вам, что как это сделать, чтобы было хорошо, Вы знаете лучше его. Поэтому делайте, как найдете нужным»82. Сухое разрешение Крэга Станиславского не обрадовало, он понял, что Крэг «от всего отрекается» и готов махнуть рукой на все предприятие. В следующих письмах Сулержицкому Станиславский раздраженно корил Крэга за «вызывающий тон», за то, что «нахальничает», требуя денег, за то, что не приехал в Москву осенью (когда сам К.С. еще лечился в Кисловодске, и Крэгу незачем было приезжать). «Говорите от себя, — предупреждал Станиславский, — не ссорьте меня с ним». Далее следовала доверительная приписка: «Словом, струна натянута, и одно неловкое движение ее оборвет»83.
В марте 1911 г. после восьмимесячного отсутствия Станиславский вновь появился на Камергерском и тотчас же занялся «Гамлетом». Первым долгом он зачитал исполнителям новые «Записки по системе»84, а потом — к немалому удивлению актеров — пригласил Немировича-Данченко на программную беседу об истолковании трагедии. В беседе, состоявшейся 23 марта 1911 г., основные проблемы постановки «Гамлета» рассматривались наново, как бы впервые. Оба руководителя МХТ, не всегда друг с другом совпадая, высказали ряд соображений, отчетливо противоречащих крэговским.
Станиславский поддержал Крэга только в понимании главной роли: Гамлет, «подобно Христу, пришел очистить мир», он «полон любви, жизнерадостности, он — лучший из людей». Такое толкование, сказал он, «очень близко к Крэгу, и я его очень чувствую». Но, продолжал Станиславский, Крэг «ради своей любви к Гамлету всех оттеняет в черные краски», остальных персонажей «делает жабами, шутами, не дает ничего человеческого». А это у Станиславского «не умещается в голове». «Наивность» крэговского подхода «граничит с балаганом», правда, добавил Станиславский, «в лучшем смысле этого слова». Уверенность, что Крэг далеко опередил свое время, теперь уже не восхищала, а скорее пугала Станиславского: театр, воображаемый Крэгом, — «выше нас, и наше поколение вряд ли дорастет до него». Значит, надо крэговской план исправить так, чтобы постановка не озадачила интеллигентную аудиторию МХТ, была бы доступна зрителям «нашего поколения».
Немирович-Данченко не принимал даже Гамлета, каким видели его и Крэг и Станиславский. «Опасаюсь идеологии, — говорил он, — Гамлет-Христос, это может поднять, увлечь актера, но и запутать. Боюсь, что, может быть, это будет современная идеология». Немирович хотел бы избежать аллюзий, требовал историзма. Время действия — «средние века, варварская эпоха», и надо «очень помнить эпоху». Немирович резюмировал: «Для меня вся пьеса сводится так: варвары и просвещенный человек».
Станиславскому же, писала Строева, совсем не хотелось «отказываться от широких современных параллелей», он предпочел бы «соединить историческое и современное»85. Однако он пока позитивных предложений не выдвигал, а Немирович, отметая все сомнения, быстро и твердо набрасывал новый план постановки. Деловитость и оперативность Немировича внушали доверие актерам. К Станиславскому труппа относилась иначе: никто не сомневался в его гениальности, но страшились его медлительности. Кроме того перспектива репетировать по «системе» исполнителей не радовала. В ситуации, когда и Станиславский опять проникся к нему живой симпатией, вполне можно было ожидать, что точка зрения Немировича восторжествует и что в результате на сцене МХТ появится спектакль, совершенно чуждый Крэгу.
Тем не менее крэговские ширмы уже существовали, на оформление были затрачены огромные деньги, и потому любые новые идеи касательно «Гамлета» надлежало так или иначе вписывать в систему ширм, любые коррективы с нею сообразовывать. А ширмы очень скоро доказали, что способны сами за себя постоять. Как только Сулержицкий на сцене продемонстрировал Станиславскому перестановки крэговских ширм и разные способы их освещения, тот пришел в неописуемый восторг: «Великолепно, торжественно и грандиозно»86. После специальных «переговоров с К.С.» по этому поводу Немирович, скрепя сердце, вписал в протокол Совета МХТ указание вести дальнейшие репетиции «в замысле Крэга»87. Одновременно Крэгу выслали и гонорар, которого тот давно дожидался. Театр, отшатнувшийся было от Крэга, вновь к нему возвращался.
Артистов МХТ крэговские ширмы буквально завораживали. Летом 1911 г. Вахтангов писал: «Мечтаю о театре. О «Гамлете». И уже тянет-тянет. Сидеть в партере и смотреть на серые колонны. На золото. На тихий свет. Я буду просить дирекцию допустить меня на все репетиции «Гамлета»88. Даже художник В.А. Симов, «бытовик» Симов, признавался: «Я не мог преодолеть возникшего тяготения к широким планам нового принципа для оформления гениальной трагедии». Его волновал «воздушный замок, превращающийся в монументальный дворец путем элементарнейших ширм и заслонов»89. На репетиции просились многие, особенно настоятельно — молодые, тогда еще безвестные Михаил Чехов, Алексей Попов, Борис Сушкевич, Алексей Дикий, Борис Фердинандов, Иван Берсенев. Старшие хотели большего: не смотреть, а играть. Л.М. Леонидов добился разрешения репетировать Гамлета в очередь с Качаловым (и некоторое время Станиславский с Леонидовым работал). За все роли, от самых заметных до самых скромных, шла тихая, но упорная борьба.

«Гамлет». Схема освещения, 1910
Период идиллически дружественного сотрудничества Станиславского и Немировича, как и следовало ожидать, оказался непродолжителен. В августе 1911 г. они начали было — в параллель «Гамлету» — вместе репетировать и «Живой труп» Л. Толстого. Однако неискоренимые противоречия опять вышли наружу. Станиславский писал Лилиной, что на одной из репетиций Немирович «в тоне повышенном, т. е. в генеральском тоне начал говорить, что по моей системе мы не только в этом, но и в будущем году не кончим анализа... Что надо годы и годы ежедневных упражнений и лекций, чтобы понять всю сложность, которая только мне одному кажется простой. Словом, полились трафареты и штампы, которые отравляют мне жизнь в театре». Далее Станиславский рассказывал жене об оформлении «Гамлета», уже готовом. Когда на сцене установили вторую картину, крэговскую «золотую пирамиду», впечатление вышло прекрасное: «В первый раз наши тупицы поняли гений Крэга»90.
Лед кратковременного недоверия к Крэгу бесследно растаял. После обычного летнего перерыва репетиции «Гамлета» с первых дней августа 1911 г. пошли полным ходом. Но Крэга не было в Москве, и это осложняло работу. Рассорившись с Немировичем, Станиславский отдалился и от Совета МХТ, который отклонил его просьбу вызвать Крэга под тем предлогом, что Крэг-де только затянет репетиции, уже изрядно утомившие актеров. Станиславский горячился: «Напоминаю, что Крэг в данный момент самый крупный талант в нашем искусстве. Было бы ошибкой разрывать с ним связь». Тем не менее и в ноябре «Совет единогласно высказался против вызова Крэга теперь, пока «Гамлет» не готов». Что Крэг — «крупный талант», Совет вовсе не отрицал, напротив, Совет благосклонно допускал даже возможность «заказа ему новой постановки». И все-таки видеть Крэга в Москве желали только «к генеральным репетициям», но не раньше. Зато Совет «настоятельно» рекомендовал Станиславскому «не отказываться от помощи Владимира Ивановича...»
Даже сейчас, семьдесят лет спустя, казуистика и фальшь этого протокола поражают. Станиславский сдержал гнев, ответил, что он-де от помощи Немировича «никогда не отказывался». Но, конечно, в тот момент о совместной их работе не могло быть и речи. Немирович утверждал, что Станиславский плохо «распределяет время», иронизировал: К. С. «щеголяет, купается в том, что слушатели находят его указания замечательными, а актерам и самой постановке от этого не легче»91. На репетициях «Гамлета» Немирович после 4 августа 1911 г. больше не появлялся.
Весь напряженный до предела финальный этап подготовки спектакля — с августа по декабрь — провел Станиславский, которому, выбиваясь из сил, фактически помогал один Сулержицкий. Три проблемы, различные по значению, доставляли им больше всего хлопот: костюмы, Офелия, Гамлет.
Костюмами занимались долго. Еще летом 1910 г. Станиславский писал Крэгу: «Вы хотели удары линий простых и естественных, красивых и скульптурных, которые пластически согласовывались бы с простотой ширм... Мы сделали множество образцов, следуя Вашим указаниям. Но все красивые ткани, купленные в магазинах, невыразительны. Все костюмы ниспадают как домашние платья или рубахи. Они мало друг от друга отличаются, и ни один не имеет «каше» простоты и артистизма». Он предлагал попробовать «толстые ткани грубой вязки»92. Это предложение совпадало с желанием Крэга, чтобы костюмы из какой-то тяжелой, падающей крупными складками ткани не особенно бросались в глаза на фоне ширм, а напротив, сливались с фоном. Крэг искал обобщенные и упрощенные, как бы вневременные одеяния, и только в отдельных деталях — в пряжках, застежках, рукоятках мечей и кинжалов — хотел намеком обозначить средневековье. «Тетрадь образцов материй», которые поочередно отвергались, поныне хранится в Музее МХАТ. В ней аккуратно подклеены кусочки сукна, парчи, бархата — блеклых, неярких тонов, желтоватые, а не желтые, голубоватые, а не голубые, серовато-серебристые, а не серебряные, тускло золотистые, а не золотые. Видно, что поиски фактуры и формы костюмов велись в соответствии с общими указаниями Крэга. Поскольку, однако, подробно разработанных эскизов Крэг не дал, обратились за помощью к М.В. Добужинскому. Тот уклонился. В конечном счете решать эту проблему пришлось художнику К.Н. Сапунову.
К августу 1911 г. Сапунов сделал костюмы, которые, по мнению Станиславского, вышли чуть «пестрее, чем надо по Крэгу; но тем не менее — по Крэгу и прекрасно»93. Действительно, Сапунову удалось главное: найти некую равнодействующую между историей и современностью, избежать всякого налета тяжеловесной музейности, но сохранить в свободных, льющихся линиях костюмов дыхание старины. «Пестроту», тревожившую Станиславского, убрали легко. И в конечном счете костюмы сделали почти «по Крэгу».
Зато с Офелией обошлись абсолютно вопреки Крэгу. Как уже упоминалось, крэговское восприятие Офелии с самого начала Станиславского не убеждало. В 1911 г. он снова говорил, что Офелия «должна остаться чистой, симпатичной и красивой». Немирович его поддержал: Офелия — «образ чистоты», человечество триста лет «берегло эту кристаллически чистую девушку». Никто не поймет, почему «вдруг в один вечер, где-то в Камергерском переулке, хотят отнять это у людей»94.
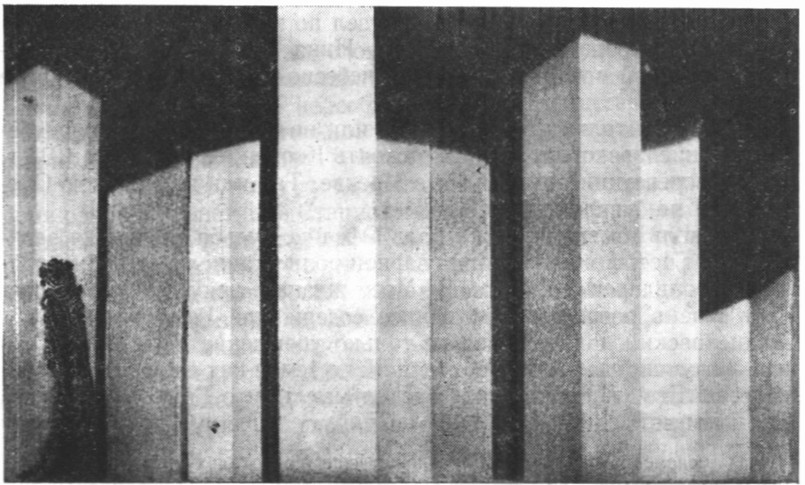
Макет «Гамлета», акт III, сц. 3
На роль Офелии назначены были четыре исполнительницы, но репетировали две, А. Коонен и О. Гзовская. Впоследствии Н. Чушкин писал, что «на роли Офелии столкнулись интересы двух талантливых артисток». Это верно, хотя уравнивать в масштабе их таланты не следовало бы. Кроме того, столкнулись не только разные дарования, но и разные толкования роли. Гзовская, подхватывая идею «чистоты», хотела играть «какую-то добродетельную Гретхен, и при этом обязательно красивую». Симпатичный образ, который виделся Станиславскому и Немировичу, она превращала в банальный. Станиславский этого не замечал, скорее всего потому, что Гзовская была в ту пору одной из самых экзальтированных поклонниц «системы». Коонен же на репетициях пыталась хотя бы отчасти осуществить замысел Крэга: ей представлялось, что в начале трагедии Офелия скована «железными правилами дворцового этикета», в сцене безумия сперва «похожа на грубую уличную девчонку», а только затем, в миг «душевного просветления», должна предстать «в ореоле той пленительной душевной красоты, которая навсегда поразила воображение датского принца». Вероятно, Коонен была близка к цели, ибо Крэг однажды назвал ее «идеальной Офелией», а Гзовскую считал всего лишь «красивой актрисочкой». Когда у Коонен роль отняли, и Офелией завладела Гзовская (в 1911 г. Станиславский репетировал уже только с нею), Крэг из-за этой перемены исполнительниц «терзался больше всего»95.
Почти полвека спустя Коонен увидела Офелию — Мэри Юр в «Гамлете» Питера Брука, и молодая английская актриса живо напомнила ей «трактовку Крэга»96, наконец-то реализованную его учеником, Бруком. Еще дальше пошел по этому пути Андрей Тарковский, чья беременная Офелия — Инна Чурикова была низменно-чувственной в начале трагедии, небесно-одухотворенной в сцене безумия6*.
Мы можем только гадать, сумел или не сумел бы Крэг переубедить Станиславского и хотя бы отстоять Коонен, если бы он в 1911 г. во время репетиций находился в Москве. Так или иначе, свою Офелию он не увидел.
Но сколь ни значительна роль Офелии, судьба спектакля зависела не от нее. А в понимании главной роли Станиславский был полностью солидарен с Крэгом. В «Моей жизни в искусстве» он писал: Крэг «очень расширил внутреннее содержание Гамлета». Причем Станиславский поддерживал не только убеждение Крэга, что Гамлет — «лучший человек, проходящий по земле как ее очистительная жертва». Его увлекала и крэговская мысль, что Гамлет «стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту сторону жизни, в загробный мир, где томился его отец... Для близорукого взгляда маленьких людишек, не ведающих жизни не только по ту сторону этого мира, но даже за пределами дворцовой стены, Гамлет, естественно, представляется ненормальным. Говоря об обитателях дворца, Крэг подразумевал все человечество»97.
Вслед за Крэгом связывая Гамлета с Христом и противополагая его «всему человечеству», Станиславский готовился поставить на сцене МХТ трагедию с сильным, мужественным и вдохновенным героем в центре. Но тут возникали затруднения, обусловленные самой природой актерского таланта Качалова, во-первых, и всем предшествующим опытом Художественного театра, во-вторых.
Те, кто присутствовал на репетициях, вспоминали: когда Станиславский показывал Гамлета, в его показах «отчетливо ощущалось нечто иное», чем у Качалова. «Гамлет Станиславского был действеннее, мужественнее». И вообще «по сравнению с Качаловым он был целеустремленнее, активнее», его Гамлет «был полон трагической остроты, огромного душевного напряжения и страстности» — и т. д., и т. п. Таких отзывов немало: таким запомнился Гамлет — Станиславский В. Волькенштейну, О. Гзовской, Б. Сушкевичу.
Но что означают в данном контексте слова «по сравнению с Качаловым»? Н. Чушкин, который все эти отзывы опубликовал, пришел к такому выводу: «Если Качалов подчеркивал в Гамлете его скорбь о несовершенстве мира, то у Станиславского главным становилась мечта, которую нес Гамлет». Ибо ему «как актеру вообще была свойственна тема мечты о преобразовании жизни, об идеальном человеке». Далее упоминались Астров, Вершинин, Сатин, Штокман...98
Рассуждение велось так, словно сравнивались два исполнителя, две разные актерские трактовки. Между тем, Станиславский Гамлета не играл и играть не собирался. Он, режиссер, показывал Гамлета актеру. Следовательно, суть не в том, что он и Качалов понимали Гамлета по-разному, а в том, чего Станиславский от Качалова добивался. И вот тут выясняются важные подробности. Во время одной из репетиций Станиславский требовал, чтобы в Гамлете чувствовалась «та деятельность, энергия, сила воли, которую, в противоположность существующему мнению», утверждают Крэг и он сам. То есть он декларировал свое единство с Крэгом и отстаивал крэговское понимание роли. Его режиссерские показы Гамлета имели одну эту ясно видимую цель.
Репетируя I акт, он говорил, что Гамлет, «стараясь скрыть от Горацио Марцелло свою печаль, может кричать, смеяться, шутить, юродствовать»99. оказывая сцену встречи с Розенкранцем и Гильденстерном во II акте, он «был жестоким, издевающимся, «разыгрывал» их, доводя до паники, а потом с гневным презрением отшвыривал от себя». В III акте, в эпизоде с флейтой, Гамлет, каким его показывал Станиславский, «метался по сцене, заставляя их бежать за ним следом, словно гончих. Он доводил этот «бег» до предельного темпа и потом вдруг внезапно останавливался, бросая им реплику так, что Розенкранц и Гильденстерн, не успев остановиться, с размаху натыкались на него»100. В том же III акте, в сцене с актерами, Станиславский «стремительно взлетел на сцену. Не вышел, а именно взлетел. И мгновенно предстал преображенным. Походка, пластика, ритм, поворот головы — все стало иным. Это был Гамлет, увлекающийся актерским показом, режиссированием. Артист побеждал в нем мстителя»101.
Репетиции Станиславского с Качаловым нельзя рассматривать как соревнование двух артистов. Происходило другое: Станиславский пытался внушить Качалову образ, который виделся Крэгу.
В записях репетиций 1911 г. его неудовлетворенность работой Качалова прорывается часто. Репетировали «Мышеловку». Станиславский писал: «Качалов пыжился, старался быть изящным, веселым, злым, ироничным. Словом, играл результаты — пришел в отчаянье, что у него нет трагизма». Репетировали финал трагедии. Станиславский опять сетовал: всю картину актер вел «в страшно медленном темпе», а «когда начинал ускорять — болтал слова, не успевая их переживать (слова опережали чувство)». Режиссер пытался добиться подлинного трагизма, разбивая эпизод «на ряд механических, простейших задач», «по бисеринкам». В сцене «Мышеловки» Станиславский теперь ставил перед Качаловым такие, например, задания: «Король встал. Гамлет бежит и вскакивает на трон, желая видеть короля»; «Гамлет кричит королю «Оленя ранили стрелой» и очень хочет быть им услышанным»; «Гамлет бежит на авансцену, чтоб увидеть еще раз убегающего короля» — и т. п.102.
Все эти подсказки — «бежит», «вскакивает на трон», «кричит», снова «бежит» — крэговские и по сути и по букве, т. е. они точно совпадают с мизансценической разработкой Крэга. Крэг считал и говорил об этом неоднократно, что сила Гамлета проступает в его стремительности, трагедийность опирается на динамику.
Качалов никогда и нигде прежде так не играл, его дарование обычно раскрывалось в иных сценических условиях, ему привычны были более спокойные мизансцены, другие ритмы, другие темпы, долгие паузы. Он героически старался себя перебороть, но, как заметила одна из актрис МХТ, Н. Бутова, «изнемог»103. Другая актриса, С. Бирман, вспоминала, что Качалов однажды показался ей «скованным», «равнодушным к Гамлету и ко всему ходу репетиций»104.
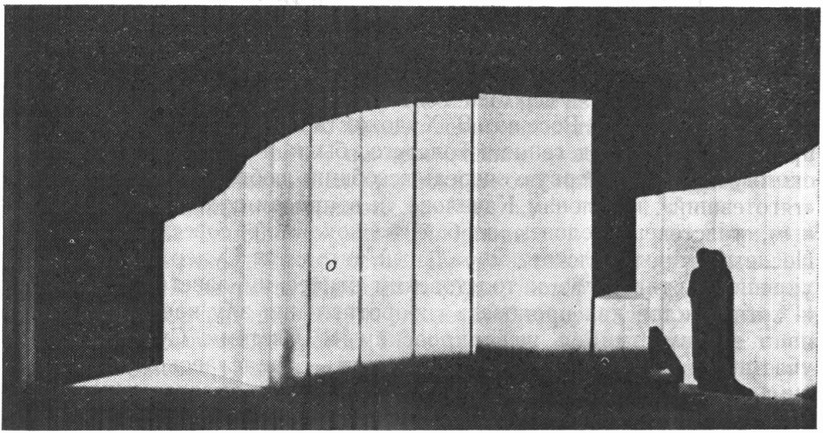
Макет. «Гамлета», акт III, сц. 3
Причины «скованности» понять нетрудно. Качалову предстояло сыграть Гамлета. Мало того, ему предстояло сыграть Гамлета в крэговской постановке, в абстрактных ширмах. Да еще сыграть и по «системе», с которой артист соприкасался впервые. Спектакль возникал в процессе сложного взаимодействия различных эстетических концепций и в напряженной ситуации противоборства философских и социальных идей. Образ Гамлета неизбежно оказывался в пункте их пересечения.
7 ноября 1910 г. умер Лев Толстой. Его уход из Ясной Поляны и смерть потрясли Россию. В Художественном театре, где всегда преклонялись перед гением Толстого, были и поборники толстовского учения — в первую очередь всеобщий любимец Сулержицкий, «тяготевший», по словам Качалова «к вопросам духовно-общественным, толстовец, человек вообще беспокойной совестливости»105. После кончины Толстого моральный авторитет Сулержицкого еще укрепился, тяготение к толстовским этическим заветам возросло. И хотя толстовская проповедь «непротивления злу насилием» была явно несовместима с шекспировским «Гамлетом», Сулержицкий, участвуя в репетициях, пытался внушить Станиславскому «необходимость этического толкования» трагедии. Ему виделся печальный и пассивный Гамлет, он, писал Н. Чушкин, акцентировал в образе датского принца «черты скорбного пессимизма, рефлексии, слабости воли». Как ни странно, автор книги «Гамлет — Качалов» не замечал, что такие акценты не совпадают с трактовкой Станиславского. Применительно к некоторым конкретным эпизодам трагедии наставления Сулержицкого звучали почти пародийно. Когда репетировалась сцена с матерью (III, 4), Сулержицкий поучал Качалова: смысл всей сцены — «взаимное спасение. Мать спасает Гамлета, а он ее. Спасают друг друга тем, что оба очищаются, раскаявшись, открывшись друг другу». Поэтому здесь «нет надобности Гамлету орать, кричать, волноваться. Нужно импозантно, глубоко, серьезно, мягко (в конце сцены) поговорить с матерью; и в. Этом Гамлет будет глубже чувствовать»106. Подобные указания противоречили и замыслу Крэга и наставлениям Станиславского. (В спектакле МХТ Гамлет входил к матери, обнажив меч.)
Разумеется, мнение Станиславского было для Качалова более авторитетно. Но подсказки Сулержицкого падали на благодатную почву: Качалову легче было играть «импозантно, глубоко, серьезно, мягко», нежели «возбужденно, стремительно, энергично», как требовал Станиславский. Первый историк МХТ Н.Е. Эфрос, характеризуя Качалова, отметил его исключительное обаяние, сценический ум, культуру, благородство игры. У артиста «нет, правда, мочаловской раскаленности, нет мочаловских бурь, но у него есть чрезвычайно большое душевное тепло». Все эти достоинства, включая и «душевное тепло», успех в роли Гамлета не гарантировали, и Качалова терзали сомнения. «Были минуты, — рассказывал далее Н. Эфрос, — когда Качалов хотел все бросить, куда-то уехать, скрыться, пропасть, только бы уйти от Гамлета, его не играть. Знаю также, что большую помощь оказал ему в эту полосу острых актерских мучений В.И. Немирович-Данченко, к которому он прибег как к последнему убежищу»107.
Н. Чушкин считал, что «последнее убежище» и стало спасительным для актера, что «именно Немирович-Данченко, так сказать, «собрал» Качалова», «помог актеру воплотить качаловского, а не крэговского Гамлета»108. Вполне вероятно, что Немирович действительно сумел Качалова успокоить и «собрать». Хотя мы не располагаем конкретными сведениями о беседах или сепаратных репетициях Немировича с Качаловым, все же ясно, что после «Анатэмы» и «Карамазовых» актер должен был с полнейшим доверием принять его советы. Менее вероятна, однако, возможность прямого, минуя Станиславского, противопоставления «качаловского» Гамлета — «крэговскому». Биограф Качалова, В.Я. Виленкин, тоже утверждал, что «качаловское «зерно» образа» не имело ничего общего с замыслом Крэга, «в основе которого была обреченность Гамлета»109. Но читатель помнит, что Крэг с первых же бесед 1909 г. (на которых и Качалов присутствовал) категорически отвергал обреченного, «черного» Гамлета, «мрачную фигуру со скрещенными руками». Он сравнивал Гамлета с «воинственным Христом», и Станиславский, излагая замысел Крэга, говорил, что герой должен «пройти с мечом по всему царству». Потому-то Качалову и дан был огромный меч. На репетициях Станиславский, ссылаясь на Крэга, требовал, чтобы в Гамлете чувствовалась «деятельность, энергия, сила воли». Следовательно, нельзя изображать дело так, словно Станиславский со «своим» Гамлетом находился где-то в стороне и вдалеке от коллизии Крэг — Качалов. Вдалеке от Москвы в 1911 г. пребывал Крэг. А Станиславский был рядом с Качаловым, в репетиционном зале, и настойчиво боролся именно за «крэговского Гамлета».
Усилия Станиславского увенчались только частичным успехом, ибо им противилась и сама актерская природа Качалова, и то понимание Гамлета, которое сложилось у артиста отчасти под влиянием Сулержицкого и Немировича, отчасти же, по-видимому, в результате трезвой оценки собственных возможностей. В сохранившихся заметках Качалова на полях роли сказано: у Гамлета — «скорбь от того, что в жизни нет добра... Он и скептик, и обличитель, и судья». Впоследствии Качалов признавал, что его «больше всего волновала мировая скорбь Гамлета»110.
И Станиславского и Крэга волновало другое. «По общему плану крэговской постановки, — говорил Качалов в 1933 г., — Гамлет, сам Гамлет, должен быть... единственным полноценным, гармоническим, большим, новым человеком, погибающим, но своей гибелью побеждающим...». Приведя эту цитату, Виленкин предположил, что Качалов, пересказывая режиссерский замысел, будто бы в свое изложение «невольно вплетает то, чего хотелось ему как актеру, а вовсе не Крэгу»111. Гипотеза столь же сомнительная, как и сообщение, что Крэг стремился к «обреченности Гамлета». Темы «мировой скорби», гамлетовского скепсиса шли не от Крэга и не от Станиславского. Как раз наоборот: Станиславский всячески старался вывести Качалова из состояния скорбной рефлексии к подлинно трагедийной активности, раскрепостить актера, освободить его от «сдержанности», за которой пряталась понятная робость. И все-таки артист на протяжении почти всей роли оставался, по словам рецензентов премьеры, «Гамлетом без страсти и порыва», Гамлетом «без всякого героизма и подъема, со вдумчивостью, с резонерством»112.
Лишь одна сцена трагедии, «Мышеловка», проводилась Качаловым так, как того хотел Крэг. И весьма примечательно, что Крэг, который будто бы «не умел и не любил» работать с актерами, за один сеанс достиг нужного ему результата.
С 12 декабря 1911 г. все спектакли МХТ были на десять дней отменены. Театр закрылся. Такое экстраординарное решение объяснялось необходимостью любой ценой к 23 декабря — до рождества — завершить работу над «Гамлетом». Станиславский репетировал и днем и по вечерам. Крэга наконец-то вызвали в Москву.
Он приехал 19 декабря, прямо с вокзала примчался в театр и вошел в зал в тот самый момент, когда репетировалась «Мышеловка». Гзовская описывала появление Крэга с нескрываемой неприязнью: он-де «буквально ворвался в зрительный зал, криками и воплями выражая свое возмущение: как это вдруг без него, не дождавшись его, репетируют?!» И актеры были якобы шокированы «поведением иностранца, позволившего себе скандал в присутствии Константина Сергеевича Станиславского»113. Все это мало достоверно. «Иностранца» прекрасно знали исполнители, а «иностранец» хорошо знал, что репетиции «без него» идут уже добрых полгода. Возмущение Крэга было вызвано тем, что свет в сцене «Мышеловки» был установлен Сулержицким вопреки его требованиям, и Станиславский с Крэгом согласился, освещение переделал. После этого Крэг провел репетицию с Качаловым. А.Г. Коонен вспоминала:
«Крэг проявил неистовое упорство. В сцене «Мышеловки» он настойчиво стал требовать предельной стремительности ритма.
— Движения Гамлета, — говорил он, — должны быть подобны молниям, прорезывающим сцену. Темперамент актера должен раскрываться здесь с максимальной полнотой, на бурных взлетах ярости, отчаяния, иронии и, наконец, торжества.
Василий Иванович пытался убедить Крэга, что это разрушит рисунок роли. Но Крэг не уступал. В конце концов, махнув рукой на сдержанность, Качалов дал волю движению и голосу. Гамлет зажил в совершенно другом ритме. Мужественная, сильная фигура Качалова стремительно металась в сложных переходах, рассекающих дворцовый зал. Сцена, казалось, обрела крылья. И любопытно, что на спектаклях именно здесь Качалов вызывал восхищение публики»114.
Слова Коонен полностью подтверждаются свидетельствами газетных репортеров и первыми же рецензиями. Прежде чем к ним перейти, надо упомянуть о письме Крэга к О.Л. Книппер-Чеховой, посланном, по-видимому, накануне премьеры: «Прошу только об одном, у меня одна маленькая просьба, — скажите словечко понежнее Качалову, а также Королю, Полонию, Лаэрту и даже Духу, шепните им всем: «Говорите немножко побыстрей, творите побыстрей». Очевидно, хорошо начинать медленно, а потом надо спешить, как спешит пламя, когда разгорается...». И Крэг пояснял: «По-английски слово «быстро» значит не только «скоро», — оно также употребляется в смысле «живо» и противоположно слову «мертво». Он спрашивал: «Вероятно, Вы согласитесь со мной, что в равной мере естественно можно действовать быстро и медленно?»115
«Мышеловка» бесспорно удалась. Во всех газетах отмечалось небывалое в истории МХТ событие: после «Мышеловки» чинная публика премьеры «нарушила обычаи театра и разразилась аплодисментами» во время действия. Когда закончился III акт, Крэг, Станиславский, Сулержицкий и Качалов «несколько раз выходили на вызовы». Тут, в этой сцене, писал один из критиков, Качалов «поднялся до высот гениальности... Гамлет с такой экспрессией бросает в зал свое «Оленя ранили стрелой», что этот момент стоит всего спектакля»116.
Общее впечатление от игры Качалова было менее благоприятным. Н. Эфрос в газете «Речь» определил «главную черту» его Гамлета словами «великая скорбь»: в центре действия — «человек, у которого непреходящий траур на душе». Спустя некоторое время «Речь» опубликовала статью В. Азова, где говорилось, что артист «вел свою роль в миноре, однотонно, бескрасочно, под сурдинку», напоминая «молодого квакера, который считает вольные и быстрые движения великим грехом, ходит — словно по земле стелется и говорит шепотом». А третий рецензент той же газеты («Речь» поместила пять статей о «Гамлете» МХТ!) сожалел, что вместо быстрого шекспировского темпа артист взял «медленный темп житейского и психологического натурализма, опрозаил Гамлета, пропитал его элегическими чеховскими настроениями»117. В статье, подписанной псевдонимом Сильвио, элегичность расценивалась как достоинство Качалова: «Ничего героического». Гамлет «объят печалью», а «громадная сдержанность» актера, «красота и новизна простой речи, без малейшего подъема и подчеркиванья», обаятельны, лицо — «необычайно одухотворено»118.
Расходясь в оценке, критики совпадали в определении темы и манеры исполнения: все твердили о скорби, печали, «горестном одиночестве» Гамлета, то ли «философа», то ли «аскета», и все замечали пониженный тонус игры. «Московские ведомости» сухо констатировали: «Только чтение. Игры нет. Выбран нарочито замедленный темп без подчеркиваний, с какими-то матовыми интонациями... Душа Гамлета г. Качаловым обуздана, одета в корсет»119. Н. Ежов в «Новом времени», говоря о «холодности» Качалова, упомянул, что артист «умен и талантлив», что у него «чудесный голос, прекрасная чисто «гамлетовская» фигура», но резюмировал: «Увы, для грандиозного персонажа шекспировской трагедии этих качеств все-таки недостаточно»120. Рецензент «Русского слова», В. Нелидов (Архелай), был того же мнения: «Недостаток В.И. Качалова — отсутствие мощи, отсутствие необходимого Гамлету исполинского темперамента»121.
Критики сошлись и в указаниях на лучшие моменты игры Качалова: кроме «Мышеловки» артист хорошо проводил саркастический диалог с Полонием («Слова, слова, слова») и глумливую сцену первой встречи с Розенкранцем и Гильденстерном. По общему мнению, Качалову не давался монолог «Быть или не быть». В «Биржевых ведомостях» А. Измайлов писал, что тут Качалов «не тронул сердца ни одним словом. Этот монолог у него опять — от ума, а не от души»122. Благожелательный Н. Эфрос огорчался: «знаменитый монолог прозвучал незначительно, была и в интонациях и в мимике какая-то напряженность, натуга. Непосредственное чувство отлетело. И было скучно»123.
Мы в данном случае сосредоточили внимание лишь на газетных рецензиях, появившихся вскоре после премьеры. Несколько позже, в частности, в журнальных статьях А. Кугеля, Л. Гуревич, Ф. Батюшкова и других (их отзывы обильно цитируются в книге Н. Чушкина), работа Качалова анализировалась более пристально. Но и критики журналов называли качаловского Гамлета «рефлектирующим», «тоскующим», упоминали о его «подчиненности страданию», «подрезанных крыльях». «Качалов, — писал Валерий Брюсов, — сводит Гамлета с пьедестала, на который поставили его столетия. В исполнении Качалова датский принц — самый обыкновенный человек, один из тех, кого мы ежедневно встречаем среди наших добрых знакомых, в салонах, на премьерах, на вернисажах. Гамлет — Качалов чем-то удивительно напоминал Чацкого — Качалова, и даже хотелось надеть на него те же очки, в которых Качалов играет Чацкого. То, что произошло с Гамлетом, по толкованию Качалова — не более как обыкновенное житейское происшествие, какие случаются не так редко. Качалов старается как можно проще произносить все монологи Гамлета. Перед нами не мучится великими сомнениями исключительный человек, воплощающий в себе весь свой век, а просто раздумывает не глупый, но все же довольно заурядный принц»124. Тут сказано главное: Качалов приблизил Гамлета к себе и к партеру. А. Кугель, единственный критик, который хвалил Качалова без оговорок, именно за это его и превозносил: «Такого рефлектирующего Гамлета, как Качалов, я не знаю: такого близкого душе гамлетизированного интеллигента»125. В сущности, о том же говорила и Л. Гуревич: монологи Гамлета «звучат в его устах как печальное, но уже вполне сложившееся размышление», «прекрасный голос» дает «только мягкие ноты среднего регистра». В итоге исполнение Качалова «не вполне сливается с ярким поэтическим замыслом режиссера»126. Сам артист после премьеры отметил в дневнике «сомнительный успех Гамлета».
Много лет спустя, в 1935 г., Крэг, беседуя с Н.Н. Чушкиным, сказал, что Качалов играл «интересно, даже блестяще», хотя и «по-своему», хотя, говорил он, «это не мой, не мой Гамлет, совсем не то, что я хотел». (Вообще Крэг относился к Качалову с искренней симпатией.) Слова Крэга были истолкованы, как нам кажется, превратно. Крэг считал, что Качалову не удалось выполнить его задания. Биографы Качалова склонны были думать, что артист сознательно, принципиально силился опровергнуть концепцию Крэга (и Станиславского). Такое убеждение подталкивало их к довольно парадоксальным аргументам. Немногие счастливые моменты качаловской игры объявлялись оплошностями, ошибками, а неудачи актера — его достоинствами или заслугами. Мы узнаем, что в сцене «Мышеловки» Качалов «изменял «переживанию» и временами прибегал к декламации», ибо мизансцены Крэга уводили артиста «в сторону от того, что особенно хотелось Качалову передать в Гамлете и что он сам не совсем удачно определял словом «интимность». Нас уверяют, что вялость монолога «Быть или не быть» — чуть ли не достижение; «настойчивая мысль Гамлета о самоубийстве, гамлетовское жизнеотрицание» (?) находились-де «вне основной темы качаловского Гамлета», поскольку Качалов «слишком любил жизнь», «любил человека». Проскальзывает мысль, что многое в Шекспире «устарело», что «художественное мироощущение» Качалова было близко более современным русским писателям, Чехову и Толстому. Возникает целый ворох разнообразных ассоциаций: в книге Н. Чушкина качаловский Гамлет сродни и Тютчеву, и Достоевскому, и Леониду Андрееву, и Толстому, и Блоку, и более всего Чехову, а конкретно — Нине Заречной (и «мог бы сказать о себе словами Нины Заречной»)... Обильные литературные параллели тормозили работу аналитической мысли Н. Чушкина и затемняли значение спектакля.
А ведь не кто иной, как Чушкин, вполне отчетливо заявил: «Крэг был максималистом. Он требовал от актеров почти невозможного — предельного совершенства... он считал, что актеры, играющие трагедию, должны в первую очередь обладать гениально разработанным движением и музыкальностью. В «Гамлете» он упрямо хотел идеала...» Вот это верно. Не кто иной, как Чушкин, столь же твердо сказал: «Так играть Качалов не мог и не хотел». И это верно, хотя, скорее, все-таки не мог. Наконец, не кто иной, как Чушкин определил: «он был — думающий, а не действующий Гамлет»127.
Когда Станиславский писал, что артисты МХТ «не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем», то он, коль скоро речь шла о «Гамлете», имел в виду прежде всего роль самого принца. Здесь, в главной роли, искали — и «не нашли».
Среди исполнителей трагедии критики с удовлетворением отмечали Полония — В. Лужского, Розенкранца — С. Воронова, Гильденстерна — Б. Сушкевича, Фортинбраса — И. Берсенева. Интересно, что Полоний, «изворотливый, как ящерица или змея», а также Розенкранц и Гильденстерн, которые, «кланяясь, выгибая шеи, потом поднимали головы, точно гадюки, готовые ужалить»128, вызывали, как видим, те самые «животные» ассоциации, которых добивался Крэг.
В спектакле, который был впервые сыгран 23 декабря 1911 г. на сцене Московского Художественного театра, далеко не все соответствовало замыслам Крэга. Крэг полностью, как «свои», принимал только три картины: «Золотую пирамиду» (I, 2). «Мышеловку» (III, 2) и финал (выход Фортинбраса). Остальные крэговские решения по самым различным, иногда эстетическим, иногда техническим, причинам были или не выполнены вовсе, или выполнены лишь частично. Тем не менее, при всех этих досадных для Крэга издержках, московский «Гамлет» убедительно показал его театральную концепцию на практике, в действии. Лоренс Сенелик верно писал: ««Гамлет» в Московском Художественном театре получился во многих отношениях недопеченный, но для театра двадцатого столетия это был плодоносный спектакль»129. Миру впервые была явлена реальность новой театральной идеи. Успех спектакля, больший или меньший, в этих условиях отходил на второй план. Постановка имела значение в первую очередь как грандиозный эксперимент, равного которому по масштабу и по смелости история театра начала XX в. не знает и все последствия которого еще и поныне с точностью определить нелегко.
Постановка «Гамлета» вызвала поистине беспримерный резонанс. Никогда ранее ни один театральный спектакль в России не обсуждался так долго, так возбужденно и так горячо. Сами посмеиваясь над собственной «гамлетоманией», газеты и журналы печатали противоречивые отклики на работу Крэга и Станиславского целый год. О московском «Гамлете» в 1912 г. писали в Петербурге и Томске, Харькове и Иркутске, Саратове и Ростове-на-Дону. Постановка «Гамлета», с изумлением констатировала газета «Кубанский край», породила «не только разговоры, но создала целую литературу, еще теперь не закончившуюся»130, Эта «литература» длилась вплоть до первой мировой войны и даже в военные годы. Ее сопровождали фельетоны, пародии, карикатуры, шаржи. Лекциям, докладам, рефератам о Шекспире вообще, о Шекспире и современности в особенности, о Шекспире и Художественном театре в частности, и, конечно, о Шекспире и Крэге не было ни числа, ни конца. И если некоторые критики, подобно Э. Старку (Зигфриду), пусть далеко не во всем Крэга понимая, все же чувствовали, что спектакль «является в театральной летописи событием совершенно беспримерным», то другие рецензенты недоумевали или негодовали. В статье Э. Старка с юмором говорилось, что зрители давно уверовали в необходимость живописной декорации, красивого пейзажа, красивого интерьера, а теперь «все это рушится: художники, забрав палитры и краски, разбегаются опрометью кто куда, потому что в театре Гордона Крэга им делать абсолютно нечего»131. Но другой известный критик, В. Азов, ничего забавного тут не находил. «Театр, из которого изгнана живопись, — не театр», — категорически заявил он132. Н. Туркин (Дий Одинокий) поучал: «раскрывает пространство именно живопись, которую г. Крэг изгнал со сцены, а покровительствуемая им архитектура ограничивает пространство. Живопись уничтожает стены, архитектура их воздвигает; живопись уносит мысль в необъятные дали, архитектура удерживает ее в себе»133. Со страниц «Обозрения театров» раздался вопросительный вопль: «Почему никогда неизвестно, когда на сцене ночь, когда день?»134
Как ни парадоксально, особенно очевидна была неспособность понять и переварить идеи Крэга как раз в статьях тех авторов, которые вообще-то давно выступали против бытового, натуралистического театра, против всяческого жизнеподобия и за всяческую условность. Если наивные театральные староверы поражались, что нигде на сцене нет ни окон, ни дверей, ни стульев, ни кресел, то мэтры русского символизма и «Мира искусств» выдвигали, как им казалось, гораздо более обоснованные и более солидные возражения. В этом смысле выразительна позиция В. Брюсова. Он тоже считал, что постановка «Гамлета» явилась «не просто очередным спектаклем, но истинным событием в художественной жизни Европы». Он соглашался, что живопись следовало заменить архитектурой, а «реализм обстановки» — условностью. Однако архитектура, по Брюсову, должна была выполнять в театре всего лишь изобразительные функции. «Если бы было возможно строить на сцене целые дома и дворцы, выращивать целые леса и заставлять протекать целые реки, — лучшего нельзя было бы и желать», — полагал поэт. Соответственно, ширмы Крэга устраивали Брюсова постольку, поскольку «из них не трудно образовать различные залы, переходы, террасы и т. п.». Но ширмы не годились, по его мнению, для эпизодов, «которые происходят под открытым небом: в саду, в лесу, в поле. Следовало создать такие же архитектурные деревья, пригорки, холмы, комбинируя которые, можно было бы создавать на сцене обстановку «вне дома». А Крэг-де предпочел «уклониться от представившихся трудностей, и сцены драмы, происходящие под открытым небом, произвольно перенес в стены»135.

Афиша премьеры «Гамлета» МХТ, 1911
Логика Брюсова — логика мысли, возомнившей себя свободной, но на деле связанной все теми же требованиями иллюзорности, картинности. Такая же связанность — и в статье Александра Бенуа. С одной стороны, Бенуа как будто поддерживал намерение «дать Гамлета вне определенной эпохи», среди «абстрактных декораций», ему и самому хотелось «видеть драму «чистой»», а не заслоненной всевозможными «лишностями». С другой же стороны, Бенуа призывал «и в этой абстрактности соблюдать самое существенное». А самое существенное опять оказывалось конкретно изобразительным: выяснялось, что Бенуа все-таки нужен замок непременно как «нечто прочное, массивное», что «привидение» (Тень Отца) обязательно «должно быть величественным и грозным, закованным в броню, т. е. являть вид покойного короля, каким он лежит в гробу». И после всех комплиментов «системе абстрактной постановки» Бенуа с нескрываемой нежностью вспоминал об иллюзиях «писанной декорации», которая «прельщает воображение тонким обманом»...136
Только Сергей Волконский просто и толково объяснил то, что осталось для Брюсова и Бенуа непостижимым. Отбросив живопись, Крэг, писал Волконский, «должен был отбросить и перспективу, и «даль», и вообще всякое фиктивное пространство: в его «картинах» пространство такой же реальный материал, как и сам человек, у него человек движется в настоящем пространстве, а не на фоне изображенного пространства»137.
Это вот настоящее, а не изображенное пространство больше всего терзало критиков. Иные соглашались и на замену живописи архитектурой, без труда смирялись с тем, что «стиля», как принято понимать это слово, никакого, и даже с тем, что «нет ни Дании, ни Эльсинора»138. Но все затруднялись ответить на вопрос, что же им показали.
Правда, почти в каждой газетной или журнальной статье отдельные постановочные решения были восприняты более или менее соответственно замыслу Крэга. Постичь частности удалось большинству, постичь целое сразу сумели немногие. Причем эти верно опознанные моменты у каждого из критиков были свои собственные. Урывочность и разрозненность восприятий выдавала неподготовленность пишущих к сценической революции, которую Крэг совершал.
Трагическую геометрию Крэга увидели все, не могли не увидеть. С увлечением рассказывали об «исполинских ширмах», о «геометрической, строгой их форме», подобной «некой полуэвклидовой, полупифагоровой теореме»139, о «классической простоте», о том, что «взяты прямая линия и прямой угол», комбинируемые «на десятки ладов»140, об «уходящих ввысь однотонных и золотых столбах», о «переходах, образующих какие-то лабиринты». Но тут же признавались в неспособности понять «головоломную загадочность ничего не объясняющей архитектуры»141.
Между тем, формула спектакля была простой, и его движущаяся архитектура подчинялась шекспировской воле. Друг с другом сталкиваясь, друг другу противореча и друг в друга проникая, развивались два зрительных и смысловых лейтмотива: распахнутость пространства и замкнутость его. Беспредельность и предел. Раскрытость и закрытость. Свобода человеческой мысли и тюремная безвыходность. Эти антиномии создавали основную конструкцию всей композиции, способную выдержать груз любых дополнительных, сменяющихся образов.
Оба лейтмотива были извлечены Крэгом из текста трагедии. Разорванность пространства была подсказана словами Гамлета: «Распалась связь времен»; замкнутость пространства — другими его словами: «Весь мир — тюрьма». Динамическая структура постановки подхватывала энергию двух этих шекспировских метафор, ими пускалась в ход, ими оперировала, то их между собой сближая, то в каждую из них углубляясь и погружаясь. Движение исполинских ширм по планшету — моменты смыкания огромных щитов в сплошные стены, моменты их размыкания, расчленения на отдельные могучие вертикали-столбы, моменты их грозного, почти вплотную, приближения к зрительному залу и моменты их отдаления, отплывания в таинственную глубину сцены, — движение это создавало поочередно либо чувство тесноты, духоты, либо ощущение простора. «Мир — величавый храм и душная темница в каждый миг времени», — предположил критик А. Ковальский, почти точно определив формулу спектакля142. Мы говорим «почти» потому, что ни «храм», ни «темница», ни «дворец», который увидели другие критики, ни «погреб», о котором писал С. Волконский, композицией Крэга запрограммированы не были. Крэг не намеревался воспроизводить зримые облики конкретных сооружений, зданий, собора или тюрьмы, дворцового зала или подземелья. Он хотел показать, зримо представить вообще не то или иное место действия, но то или иное состояние духа Гамлета.
Борис Пастернак, который впервые принялся за перевод «Гамлета» еще в 1924 г., а затем в конце 30-х годов продолжил эту работу по просьбе Вс. Мейерхольда, в 40-е годы, закончив свой труд, писал, что «общая музыка» трагедии состоит «в мерном чередовании торжественности и тревожности»143. Такое чередование, такое мерное и неостановимое раскачивание всей композиции и призвана была зримо передать крэговская архитектоника. Абстрактные линии трагической геометрии были ориентированы согласно взлетам и падениям гамлетовой мысли.
Но одна из важнейших особенностей абстрактной структуры состоит в том, что она, ничего собой не изображая, допускает любые ассоциации, их поощряет, возбуждает ассоциативные способности зрителя. И потому любые ассоциации возможны, законны, желательны. Поток впечатлений только кажется неуправляемым и произвольным. На самом-то деле он свободно мчится по руслу, предуказанному формой.
Между словами Волконского, что сцена «дает впечатление почти темницы, чуть не погреба, огромного, грандиозного, но все же погреба», и словами Гуревич, что Гамлет «кружится, сталкиваясь с призраками людей, по каким-то нескончаемым бесцветным галереям, между уходящих ввысь столбов, по каким-то внезапно расширяющимся коридорам неправильной формы»144, в сущности, противоречия нет. В обоих случаях критики уловили противоборство духа Гамлета с «материей», его окружающей. Ассоциации разные, чувство одно: весь мир — тюрьма для героя.
Волконский, кстати сказать, точно подметил, что впечатление тюремной безысходности технически достигалось простейшим приемом: в глубине сцены не было ни традиционного задника, ни хоть небольшого просвета. «Отсутствие горизонта, — писал он, — придает всему характер замкнутости: глаз всегда упирается в предел»...145
Когда же ширмы раздвигались, расчленялись на отдельные вертикали, уходившие вверх, под колосники, тогда между этими столбами возникали черные зияния пустоты. Пространство преображалось. Мысль Гамлета обретала свободу, духовные борения героя вырывались на простор. Ширмы теперь не препятствовали размышлениям принца, они расступались и отступали перед ним, давали дорогу его гневному разуму, чтобы затем вновь внезапно преградить путь, поставить на его пути стену, сомкнуться, сжаться в узкую щель, откуда Гамлету грозит гибель.
Большая амплитуда «раскачивания» трагедийной структуры предполагала, конечно, ее подвижность, требовала изменения конфигурации ширм по ходу действия, на глазах у зрителей. Чего и хотели, как мы помним, и Крэг, и Станиславский, но чего они добиться не смогли. А потому даже более важное, чем первоначально предполагал Крэг, чуть ли не решающее значение приобрела световая партитура спектакля. От метаморфоз освещения, от игры света на плоскостях ширм теперь зависело многое, если не все. Недаром на генеральных репетициях Станиславский вместе с Крэгом, иногда с ним конфликтуя и ссорясь, но все-таки в конечном счете с ним соглашаясь, больше всего занимался именно установкой света.
Их усилия даром не пропали. Рецензенты увидели, что ширмы словно заменяют осветителю холст, где он, подобно живописцу, создает из цветовых пятен «целые красочные симфонии, фантастические, но певучие, понятные, как оркестровые аккорды»146. И «угрюмо-серые ширмы от наводимого на них света становятся то голубыми, то палевыми, то алыми»147. Волконский твердо заявил: «Никогда пластическая, созидающая роль освещения на сцене, я бы сказал — материализующая сила света, не выступала с большей наглядностью... Не думаю, чтобы в 1-й картине то, что мы видели, было ниже того, что Крэг хотел»148.
Волконский близок к истине, ибо важнейшие крэговские требования театр выполнить сумел. Напомним, что первую сцену трагедии в спектаклях XIX в. обычно не исполняли, ее отбрасывали, как отбрасывали и финал. Согласно постановочному плану Крэга, оба эпизода, обрамляющие пьесу, восстанавливались в правах. Более того, режиссер предпослал появление одинокого Духа (тени отца Гамлета) диалогу стражников, которым начинается пьеса Шекспира. С первой же минуты спектакля Крэгу важно было поставить действие в зависимость от потусторонних сил, объявить прямую связь бытия и небытия как главное метафизическое условие трагедии.
Занавес открывался в полной тишине. Косой голубовато-лунный луч прорезал темноту сцены и медленно, осторожно ощупывал высоченные, подобные колоннаде, вертикали ширм. В странном, каком-то космическом освещении начинала звучать музыка. В ней чудился сперва отдаленный рокот волн, затем слышался злобный, режущий ветер. Гудение ветра окрашивала тоской рыдающая, стенающая мелодия Ильи Саца — ее вели альты, виолончели, контрабас. От одной из колонн вдруг отделялась высокая фигура. Дух в длинном, похожем на саван, волочащемся по земле одеянии то растворялся в сумраке на фоне серых ширм, сливаясь с ними и исчезая, то снова в бледном свете проплывал между столбов. (Крэг сперва хотел, чтобы Духа играли пять или шесть одинаково одетых актеров и чтобы они поочередно появлялись и исчезали то тут, то там, создавая впечатление полной ирреальности происходящего. Станиславский, со своей стороны, предложил, чтобы роль Духа играл вообще не актер, а — движущийся световой луч. Остановились все-таки на одном исполнителе роли Духа.) Едва выходили стражники, Дух пропадал, чтобы спустя короткое время снова предстать перед взором Горацио. По ширмам скользили тени, сквозь завывания ветра доносились отголоски погребального марша. Крик петуха, возвещавший утро, композитор передал визгливыми, срывающимися аккордами фисгармонии. Под ее звуки, терзающие слух, призрак исчезал. Но музыка продолжалась: вступали фанфары, их зловещий рык подхватывали трубы, литавры, раздавался барабанный бой, ернический трезвон свадебных колоколов.
По замыслу Крэга, Гамлет «среди своих размышлений слышит трубы, звон колоколов, то звучный, праздничный, то надтреснутый — погребальный». Это задание Сац выполнил прекрасно. Занавес закрывался под нарастающий мотив марша — одновременно и бравого, и скорбного, траурного и — нахрапистого, удалого. Особенно громко мелодию марша вели «дерзкие, зловещие, наглые фанфары с невероятными созвучиями и диссонансами, которые, — писал Станиславский, — кричат на весь мир о преступном величии»149. Музыка гремела, и занавес раздвигался вновь, открывая небывало ослепительное, грозное зрелище.
Вся сцена была залита расплавленным золотом и вся она горела в солнечном свете. Золото высилось внушительной пирамидой, которая образовывалась из золотых одежд придворных, раболепно сгрудившихся вокруг двух неподвижных золотых идолов — короля и королевы, чьи фигуры в огромных сверкающих коронах высились в глубине внезапно преобразившегося пространства. Только что оно было далеким, пустынным и холодным, теперь пылало жаром, слепило глаза. Ширмы, тоже золотые, но матовые, не такие яркие, как мощная группировка, заполнившая планшет, отступили вглубь, соединились в стены.
Ближе к публике, слева, у самой рампы, на полу, лицом к зрительному залу, полулежал, полусидел Гамлет в позе, напоминавшей позу снятия со креста: бессильно повисла правая рука, левая оперлась на невысокий барьер из серых кубов (этот барьер отделял принца от его «видения»), ноги болезненно вытянуты.
Спустя два года Крэг, публикуя эскиз этой картины, осуществленной им «в сотрудничестве с мистером Станиславским», в театре, который «называют Театром Чайки», пояснял: «Вы видите сцену, разделенную барьером. По одну сторону барьера сидит Гамлет, поникший, будто спящий, по другую сторону вы видите его сон. Вы видите его очами души Гамлета... Это не действительность, это — видение»150.
Импульс к такой организации пространства Крэг уловил в шекспировском тексте, в первых же репликах, которыми Гамлет парирует вопросы Клавдия. В ответ на слова короля, почему над Гамлетом «вечно висят тучи», принц говорит: «Это не так, милорд: я под слишком ярким солнцем»151. Метафора в данном случае, как почти всегда у Шекспира, многозначна, в ней спрятаны глубокие, тайные смыслы.
Говоря о шекспировском «метафоризме», Пастернак заметил, что метафоризм этот — «естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач»152. Высказывание поэта подтверждается и участью Гамлета, и словами, которые Шекспир вложил в его уста. Выше мы показали, какие метафоры принца продиктовали Крэгу общий принцип композиции, формулу спектакля. Но и во многих конкретных постановочных решениях Крэг сознательно стремился найти зрительный эквивалент словесным метафорам трагедии, ибо, вслед за Ипполитом Тэном, мог бы повторить, что для Шекспира «метафора — не каприз его воли, но форма его мысли»153. Он мог бы, как и О. Мандельштам, сказать: «...для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение»154. Сложность, и немалая, состояла в необходимости перевести метафоры трагического поэта на язык сцены.
В данном случае образ «слишком яркого солнца» королевской власти был материализован картиной плавящегося золота, вытесняющего принца со сцены, едва не сбрасывающего фигуру Гамлета во тьму зрительного зала.
Какое впечатление производила эта картина, прекрасно рассказал Станиславский в «Моей жизни в искусстве». Рецензии, появившиеся тотчас после премьеры, дополняют его рассказ. Э. Старк с изумлением взирал на «золотую сцену», на «золотых короля и королеву, золотую Офелию, золотого Полония» и на «симметричную шеренгу столь же золотых придворных». Критик заметил «противоположение двух миров. Там, позади — блеск и роскошь, мишурное великолепие... Здесь, впереди — внутренний мир Гамлета, принца-философа, у которого с тем миром нет никаких точек соприкосновения»155. «Мерцающее тускло золото, освещенное лучом, падающим на короля, — точно видение, — писал уже упоминавшийся Сильвио. — Король, двор — это для Гамлета — чудовища, залитые золотом, упивающиеся им, чудовища властолюбия и чувственности. Таковы все они! Единый слиток!» В другой газетной статье читаем: «Вся сцена — сплошное золото, золотые стены, золотой трон, золотые костюмы, ослепительные лучи солнца, обильно льющиеся сверху. Гремят литавры и трубы. Почтительно склонившись перед королем и королевою, стоит свита. И на авансцене, в тени, Гамлет. Весь в черном, печальный и недвижный, сидит в стороне, чуждый всему»156. Л. Гуревич призналась, что ее «поразил и потряс» замысел Крэга: «мерцающая в дымном свете гора закованных в золото человеческих фигур, и перед этим видением, на грани, отделяющей полутемную авансцену, скорбный Гамлет — в этом зрительном образе уже намечена основа трагедии»157.
Многих удивляло, однако, что Гамлет сидит как бы вне тронного зала, спиною к королю и лицом к рампе. «С нетерпением ждешь, — писал Э. Бескин, — реплик короля. Гамлет должен на них отвечать. Как же театр выйдет из этого положения? Оказалось — очень просто. Гамлет, сидя где-то в пространстве, все-таки каким-то чудом слышит обращенные к нему слова и отвечает на них в публику. Что это такое? Как это понять? Где здравый смысл? Законы физики?»158 Провинциальный трагик Н. Россов язвительно комментировал: «Какова картина? Слух у Гамлета, оказывается, настолько развит, что он отчетливо слышит все обращаемые к нему... за версту реплики и, в свою очередь, отвечает на них таким спокойным, «комнатным» тоном»159.
Россов легко перенес бы общение Гамлета и короля «как в жизни», глаза в глаза. Он еще легче понял бы режиссера, если бы тот поставил Гамлета вполоборота к королю, чтобы актер обращался в публику, не упуская из виду партнера. Крэг предложил совершенно иную систему общения, когда и король и Гамлет, друг на друга не глядя, слышат друг друга потому, что каждого из них слышит зал. Ныне такая форма общения применяется часто. Тогда она была испробована впервые, а потому изумление критиков и раздражение актера Россова понять легко. Но некоторые восприняли это новшество без труда. Один из рецензентов, например, преспокойно сообщал: «Не глядя на короля, даже не повертывая головы, отвечает ему Гамлет, точно разговаривает сам с собою, сосредоточился в себе: чувствуется глубокое напряжение мысли»160.
Далее, однако, следовало обозначить переход от «видения» принца (и от его диалога с королем и королевой) — к монологу Гамлета «О, если бы души моей оковы». В момент, когда, согласно ремарке, «все, кроме Гамлета, уходят», сцену на миг поглощала тьма, за спиной Гамлета опускался черный тюлевый занавес и вся золотая пирамида бесследно растворялась, исчезала. Раздавались звуки хорала, который в партитуре Саца назывался «Одиночество Гамлета». Женские голоса, стеная, выпевали — без слов — странную, ангельски чистую, прерывистую мелодию. Тенор подхватывал ее, но тут же терялся среди высоких дискантовых «лунных» звучаний. После того как мелодия угасала, отлетала, Гамлет начинал свой первый монолог.
Следующей мизансценой-метафорой, представляющей для нас особый интерес, была встреча Гамлета с Духом. К этому моменту ширмы вновь обретали голубоватую призрачность, как в начале спектакля, и также грозно будто вытягивались ввысь. Портал закрывал прозрачный, темный тюлевый занавес. По-видимому, оба эпизода I акта, где является Дух, Крэг выстраивал, согласно словам Горацио о «глухой пустыне полуночи» и словам Гамлета о ветре, который в этой пустыне гуляет, «пронизывая насквозь», о «холоде», который принц чувствует. Этот почти физически ощутимый холод изливался со сцены в зал. Дух появлялся теперь высоко над планшетом в правом проеме между двумя ширмами: там виднелась открытая площадка с узкой крутой лестницей в два марша, и Дух стоял в сильном световом столбе, в воздухе, твердо, как на земле. Самой главной тут была мизансцена, когда Гамлет порывается следовать за Духом, а Горацио и стражники пытаются принца удержать. Обычно, по традиции, четверо мужчин преграждали Гамлету путь, хватали его за руки. Крэг предложил принципиально иное решение: «Все окружают его, пытаются стать между ним и Духом, но он так силен, что к нему не смеют подойти... Когда Гамлет проходит между ними, они больше ужасаются его лицу, чем ужасались Духу. Его лицо в эту минуту вызывает у них больший ужас, чем Дух»161.
Языком одной лишь мизансцены, расположением в пространстве пяти мужских фигур создавался образ героя сверхчеловеческой, мифологической силы, способного не только «запросто», но и требовательно обращаться к Духу со своими вопросами. В этот самый миг Гамлет перешагивал грань бытия и небытия. В одной из рецензий замечено было, что тут «обрисован не слабый, безвольный человек, а ангел-мститель, призванный восстановить правду», более того — «сверхчеловек»162. Такого ощущения и добивался Крэг. Величие героя должна была показать и доказать сама режиссерская композиция: герой ввергался в некую надмирную среду, «где воздух насыщен таинственными видениями», где, как писал А. Кугель, «надмирное огромно, велико, бесконечно в сравнении с жизнью; людское — жалко и вместе с тем мучительно», где над Гамлетом как бы распростерт «мистический шатер бесконечности»163. Но вот в этом-то надмирии, в этой-то бесконечности Гамлет, который только что пассивно всматривался в земное величие золотой пирамиды власти, вдруг обнаруживает невероятную, неостановимую активность, внушающую истинный ужас его спутникам и даже его другу, Горацио. Если он осмелился допытываться у Духа о смысле сущего, если он дерзнул спрашивать Духа: «Скажи, зачем это? Для чего? Что делать нам?», если, наконец, он мог, ни минуты не колеблясь, последовать за Духом неведомо куда, хоть в преисподнюю, то, значит, он способен и на великие деяния.
После разговора с Духом Гамлет падал на колени. Он, сказано в рецензии, «целует место, откуда слышался голос, и весь последующий монолог стоит коленопреклоненный. На словах «Распалась связь времен...» взор артиста обращен к небу»164.
Качалов на полях роли отметил для себя: «общение с Богом»165. Поза актера многим напомнила «моление о чаше в Гефсиманской саду». Как мы помним, намерение Крэга сблизить сильного Гамлета с Христом-воителем очень увлекало Станиславского. Но первоначально Крэг задумал эту мизансцену иначе: не один Гамлет, а все пятеро мужчин (Гамлет, Горацио, трое стражников) опускались на колени и, сжимая рукоятки мечей, произносили слова клятвы. Такое суровое завершение эпизода несло в себе отзвук совершившейся катастрофы.
Владимир Соловьев однажды упомянул о том, что трагедия Гамлета «не только кончается, но и начинается катастрофой»166. Встреча с Духом — первая катастрофа, сотрясающая весь гамлетов мир. С точки зрения экзистенциальной, в плане бытия героя, важно, что с этой минуты Гамлет знает о неизбежности второй катастрофы, ожидающей его в финале. В плане же поэтическом данный момент означал, как верно заметил (скорее всего, под впечатлением постановки Крэга) В. Выготский, «второе рождение» Гамлета. Принцу надлежало теперь из небытия, черту которого он осмелился переступить, вернуться в «вывихнутый век» и в «распавшееся время». Обе шекспировские метафоры предопределили очертания пространства, где очутился крэговский Гамлет во II акте пьесы. Ширмы выстроились зигзагообразно вывихнутым, ребристым золотым коридором, уходившим в глубину сцены. Конфигурация коридора менялась, причем тут рабочим сцены удавалось бесшумно передвигать ширмы по ходу действия, на глазах у зрителей. Шаткость, неустойчивость золотого коридора подтверждали диагноз Гамлета. Подвижность пространства мрачно осуществлялась в остановившемся времени. Время распалось и замерло.
Образ оцепеневшего времени создавался в спектакле, во-первых, беспрерывностью золота, на ослепительно блестящем фоне которого возникали новые и новые видения Гамлета, и, во-вторых, повторностью мизансцен, которые гораздо чаще, нежели у Шекспира, соотносили между собой фигуры принца и короля, принца и королевских приспешников, соглядатаев и шпионов. Крэг хотел, чтобы Клавдий казался вездесущим и чтобы Гамлет его присутствие — зримое или незримое — постоянно ощущал. А потому и король и королева, сняв короны, в своих золотых одеяниях, мелькали на фоне ширм, прятались между ребрами золотого коридора, как и другие придворные. Они могли подглядывать за Гамлетом, но, увы, ни подслушать, ни услышать его сокровенные мысли не могли, хотя эти мысли принц высказывал вслух, обращая свои монологи в зрительный зал. Что же касается Гамлета, то во II акте он почти все время находился на сцене, отступая иногда в тень, к правому переднему краю подмостков, — и он-то все видел и все слышал, он знал все.
В колеблющемся пространстве и в застывшем времени движения Гамлета были тверды и быстры. Темный, острый, как нож, Гамлет стремглав прорезал золото «жирного века». И в сфере охватившей Гамлета лихорадки смыслов, т. е. в его мятущемся разуме, в напряженной игре словесных ритмов (проза и стихи, сарказм и печаль, грубые инвективы и откровения исповеди, притворное безумство и ясная рассудительность) — во всем проступала гигантская духовная сила. В фабуле действие топчется на месте, в сюжете — мчится во весь опор. Гамлет тут не только, подобно Макбету, «смеет все, что смеет человек», он способен и на большее.
Для крэговской концепции ужас, который охватил Горацио и стражников, когда Гамлет устремился за Духом, имел самое существенное значение. Ибо поступок Гамлета, решимость Гамлета доказывали, что он «избран в герои» свыше, но избран по внутреннему праву, что еще до встречи с Духом он готов был к самопожертвованию.
Иными словами, применительно к Гамлету можно и следует говорить не о трагической вине, а о трагической правоте героя. На смену античной трагедийной поэтике Шекспир предложил новый тип трагедии гуманизма, соотнесенный с иным ощущением трагичности бытия. Мифологическое бессмертие образа Гамлета ведь как раз тем и объясняется, что во все века молодой человек, восстающий против мертвящей власти прошлого и способный ценой собственной жизни прошлое опровергнуть, — это человек начала. Потому так разительна была в спектакле Крэга метаморфоза, совершившаяся с Гамлетом на пути от «золотой пирамиды» к «золотому коридору», В I акте на ослепляющее золото власти полулежа смотрел человек, охваченный скорбью и тоской. Во втором акте заново рожденный Гамлет — сгусток энергии, он абсолютно бесстрашен и абсолютно свободен.
В сцене с Полонием сосредоточенность мысли и воли Гамлета явлена самым наглядным способом. В щелях и в порах ребристых стен затаились король и королева и послушные им царедворцы. Один Полоний расхаживал по коридору, поджидая принца. Ему казалось, что шаги принца послышались вдалеке, и он бежал в глубину сцены. Тотчас же эту глубину заливал мрак, а весь передний край подмостков освещался ярчайшим светом. Свет падал сверху: там над сценой нависла линия прожекторов, иначе говоря, рампа была вздернута ввысь, за портал, и лучи могли становиться световыми столбами, ливнями, стенами. Сквозь такую вот световую стену видна была медленно поднимающаяся из люка фигура Гамлета. Он возносился словно ниоткуда и вырастал, казалось, до исполинских размеров — этот темный Гамлет с книгой в руке. Световая стена рассеивалась, расступалась перед ним, и снова становились видны и золотой коридор, и торопливая походка удаляющегося Полония. Обернувшись, Полоний замечал Гамлета. Весь их знаменитый диалог оба вели подчеркнуто серьезно, но в издевательски комической мизансцене: шагая перпендикулярно линии рампы то в глубь золотого пространства, то по направлению к зрителям, один — в одну сторону, другой — в другую, мимо друг друга и мимо смысла, Полоний — многозначительно не понимая Гамлета, Гамлет — не желая Полония даже и замечать. Свой вопрос: «Что вы читаете, принц?» Полоний произносил лицом к публике. Гамлет — Качалов не ему отвечал, он, повернувшись в этот миг спиной к зрителям и указывая на книгу, с горечью говорил самому себе: «Слова...» Следовала пауза. Затем, писал рецензент, «помолчав и, словно сам убедившись и вновь убеждая, повторяет: «...слова». И в новом миге молчания почерпнув силу последнего убеждения, заканчивает тихо: «слова»167.
Сцена с Розенкранцем и Гильденстерном велась в другом ритме и в другом темпе. Гамлет, рассказывал А. Койранский, «стоит среди них и с трудно скрываемым раздражением и насмешливостью отвечает на их несносную болтовню». Когда его терпение иссякло, «в Гамлете просыпается озорство» и он вдруг «незаметно, среди фразы щиплет своих собеседников, а те отскакивают, как ужаленные»168. Л. Гуревич считала, что этот эпизод — один из лучших у актера: «в глазах Качалова вдруг блеснуло что-то жгучее, в голосе прорвалась скрытая злость, ярость оскорбленного чувства. Внезапным судорожным движением он отбросил от себя обоих царедворцев, которых перед тем привлек к себе, играя с ними, как кошка с мышью. В эту минуту в Гамлете — Качалове почувствовалось какое-то безумие, какое-то тихое внутреннее исступление, и это было прекрасно — правдиво и вдохновенно. Это показало, что артист способен почувствовать свою роль во всей сложности ее внутренних мотивов»169. Это показало, добавим мы, что лучшие минуты качаловской игры были те, когда он, доверившись Крэгу, не медлил и не боялся динамики.
Отношения между Клавдием и Гамлетом быстро обретали остроту противоборства двух встречных интриг. Власть имущий король торопливо сплетал вокруг Гамлета паутину шпионажа, дабы в конечном счете его убрать, убить. Отрекающийся от власти принц готовился нанести Клавдию удар бескровным, эфемерным оружием искусства. Две эти интриги зеркально одна в другой отражались. Но на стороне Гамлета и тут были преимущества всеведения и бесстрашия.
Огромная процессия бродячих комедиантов выходила сбоку из-за одной из ширм и сразу ввергала в золотое пространство полыхание ярких, локальных — красных, синих, оранжевых, зеленых, желтых — красок актерских одежд, резко контрастировавших с глухими, матовыми тонами всех остальных костюмов, выдержанных в коричневатой гамме. Комедианты несколько раз парадом проходили по авансцене под бой барабанов, вопли флейт и ласковые звуки гобоев, а потом окружали Гамлета. Он радостно их приветствовал, похлопывал по плечам, обнимал, весело разглядывал их скарб. Актеры волокли с собой ящики с нарядами, куски разноцветных тканей, огромные опахала, маски, весь реквизит, всю грубую бутафорию кочующей труппы. По Шекспиру комедиантов — четверо или пятеро, Крэг выпускал целую толпу, около тридцати статистов (стоит упомянуть, что среди них был и М.А. Чехов). По Шекспиру после первого разговора с принцем актеры удаляются, по Крэгу они оставались на сцене до конца II акта и, готовясь к представлению, мерили и ушивали костюмы, гримировались, репетировали. Их закулисные хлопоты (в режиссерских планах МХТ эти сценки так и назывались: «За кулисами») становились фоном к продолжавшемуся ходу трагедии Шекспира, действие текло симультанными потоками. Когда Гамлет произносил монолог о Гекубе, комедианты копошились между ширмами слева, а справа король и его приспешники подсматривали за принцем, силились понять, о чем он там бормочет, что еще задумал.
Перед монологом «Быть или не быть», в начале III акта, комедианты исчезали. Как уже было сказано, этот монолог Качалову не удавался — скорее всего отнюдь не потому, что актеру непонятны были рассуждения Гамлета о жизни и смерти (как раз та философическая окраска роли, к которой клонил Качалов, позволяла надеяться, что он одолеет центральный философский монолог). Непонятны — и невыражены — оказались моменты, когда Гамлет колеблется на грани бытия или небытия. Острота и кризисность ситуации всего монолога исчезла, вероятно, именно потому, что взамен неосуществленного постановочного решения Крэга в Художественном театре ничего, в сущности, не придумали. Крэг замышлял тут «дуэт Гамлета и музыки, т. е. Смерти». Развивая давнишнюю идею своей пантомимы «Ступени», он хотел дать зримый, видимый зрителям облик Смерти избавительной. Золотая или серебристая девушка-смерть должна была под музыку то приближаться к принцу, то отдаляться от него в грациозном танце. Такое виде́ние Гамлета вполне логично развивало всю тему витающих в сознании принца образов бытия и небытия, было естественным и даже неизбежным отзвуком «золотой пирамиды», а кроме того давало ответ на слова монолога о снах, которые смерть предвещает принцу. В то же время, фантазировал Крэг, за тюлем позади Гамлета «все время движутся вокруг него тени и движутся с ним, качаясь, как черные думы»170. Станиславский долго искал способы осуществить замыслы Крэга, но тогдашняя техника сцены сводила все его усилия на нет. По словам Чушкина, Станиславский рассказывал, что он «производил опыты с фигурой Смерти, делал различные пробы то со светом, то при помощи актеров», пробовал (или хотел пробовать) даже с Дункан, «но ничего не получилось»171. В конечном счете Качалов произносил монолог, расхаживая по золотому коридору ширм. За одной из этих ширм, в тени, на лесенке пряталась, сжавшись в комочек, Офелия — О. Гзовская.
Зато сцена «Мышеловки», как и «золотая пирамида» I акта, почти идеально соответствовала крэговскому плану и была, как писали тогда в газетах, «подавляюще грандиозна». Еще при закрытом занавесе начиналась — легко, игриво — музыкальная увертюра: весело подавали голоса флейта, кларнет, фагот, грубовато-насмешливо отзывался тромбон, слышались бархатные, глубокие вздохи виолончели. Занавес открывался под нервную барабанную дробь, снова вступали «наглые фанфары» зловещего церемониального марша. (В партитуре И. Саца этот музыкальный номер назывался «Держава».) Картина, представавшая взорам зрителей, была действительно необычайной. Золотые ширмы отодвинулись далеко в глубину и сомкнулись. На их тусклом поблескивающем фоне вдали от рампы на огромном троне расположился Клавдий, а вокруг него, опять в сплошном золоте, все придворные. Один только Горацио в черной одежде, скрестив руки, стоял слева возле ближайшей к публике ширмы. Впереди, на авансцене, находилась игровая площадка бродячих комедиантов. Как только зрители увидели «полукруг золоченых колонн, бездонную громаду зала, сияющий трон», а перед ним, несколько ниже «платформу с четырьмя пилонами», где разыгрывалась пантомима, тотчас «заработал художник освещения: он дал такие яркие краски, такое сочетание золота, пурпура, солнца», что «сердце трепетало от этого грандиозного вида»172. Световая партитура «Мышеловки» строилась на резких контрастах света и тьмы: ярко освещена была площадка комедиантов, весь этот «театр в театре», а вся группировка придворных оставалась в полутьме. Скользящий луч иногда проникал в эту темноту, вырывая из мглы то поблескивающее золото одежд, то возбужденное лицо Гамлета.
Между авансценой и площадкой комедиантов был открытый люк. Но он не бросался в глаза. Привлекало внимание другое: комедианты пантомимы выступали между двух массивов зрителей, сразу и для публики Художественного театра, и для Клавдия и его свиты, на грани двух зрительных залов. Такое Трехчленное деление пространства, впервые предложенное Крэгом, впоследствии применялось часто и многими.
Гамлет сперва, чтобы лучше видеть своих актеров, спрыгнул в люк, и, опершись локтями на края люка, во все глаза следил за пантомимой, а потом выскакивал из люка, проходил в глубину сцены и занимал место на ступеньках подле королевского трона, у ног Офелии. Пантомима шла под звуки старинной музыки: на голой платформе в ярко-желтом плаще мим-король нежно обнимался с мимом-королевой, ложился почивать, и тогда к спящему большими тихими шагами, пританцовывая, приближалась мрачная фигура мима-отравителя. Когда пантомима заканчивалась, комедианты проворно расставляли на площадке крохотные переносные декорации и начинали пьесу «Убийство Гонзаго».
Тут Гамлет, охваченный охотничьим азартом, быстро вставал, на цыпочках, бегом, проскальзывал за трон Клавдия и — весь внимание! — замирал за его спиной. «Королю, — с удивлением комментировал Б. Назаревский (Бэн), — приходится обернуться спиною к публике и к представлению, чтобы смотреть ему в глаза». Эта мизансценическая находка Крэга поистине замечательна, ибо придает всей «Мышеловке» дополнительный смысл: Клавдия пугает не столько разоблачение, сколько разоблачитель. Вдруг оглянувшись и встретившись глазами со злорадным, торжествующим взглядом Гамлета, Клавдий испытывает нечто подобное тому, что испытал Горацио, когда увидел лицо Гамлета, готового следовать за Духом в потусторонний мир. С той, однако, разницей, что причастность Гамлета к запредельным силам грозит Клавдию неминуемой гибелью, и король это чувствует. А Гамлет тоже ведь не на представление смотрит: стоя позади трона, он ждет этой неминуемой оглядки, ждет этого вопросительного взгляда Клавдия. «Затем, — продолжал Бэн, — король схватывается и рысью пускается от Гамлета. Сперва он бежал прямо на зрительный зал, потом круто повернулся и прогалопировал по авансцене»173. Вслед за королем испуганно, как мыши, разбегались во все стороны и придворные. Под их смятенные крики «Огня, огня, огня!» Гамлет вскакивал во весь рост и, завернувшись в желтый плащ короля пантомимы, сперва одним прыжком взлетал с радостным воплем «Оленя ранили стрелой!» на трон Клавдия, затем широкими, быстрыми скачками переносился через платформу комедиантов, и наконец, ликуя, пускался на авансцене в победный танец. «Экстатически, до пляски, потрясенный восторгом, он странен, дик, но понятен»174.
Некоторые узловые эпизоды трагедии были в спектакле смазаны и невнятны — отчасти потому, что три важнейшие роли (Клавдий — Н. Массалитинов, Гертруда — О. Книппер-Чехова, Офелия — О. Гзовская) актерам вообще не удались, отчасти потому, что постановочные планы Крэга выполнялись неточно или не выполнялись вовсе. Не вышли ни сцена Гамлета с матерью, ни сцена могильщиков, ни похороны Офелии, где появлялась процессия ангелоподобных девушек в белых платьях, а зажженными светильниками в руках и с благоговейным хоровым пением. Все эти неудачи раздражали Крэга. Но он был доволен финалом спектакля, тремя сильными аккордами концовки.
Первый аккорд — трагический бой Гамлета и Лаэрта. Это был именно бой, а не один из обычных фехтовальных поединков в духе «театра плаща и шпаги». Гамлет — Качалов и Лаэрт — Р. Болеславский бились тяжелыми мечами. В левой руке у каждого был вдобавок длинный кинжал. Схватка шла беспощадная, не на жизнь, а на смерть: лязг клинков, ожесточение лиц, мускульная напряженность тел. Подмостки заливал красноватый свет, предвещая кровопролитие. В глубине сцены опять, как и в «Мышеловке», возвышался трон, где восседали король и королева, на ступенях, ведущих к трону, опять мрачной золотой толпой сгрудились придворные с траурными повязками на рукавах. Все они смотрели на бой Гамлета и Лаэрта точно так же, как недавно смотрели на пантомиму — и бой шел там же, на авансцене, где недавно комедианты давали свой спектакль. Крэговская мизансценировка сообщала смертельной схватке оттенок придворного зрелища, королевской забавы.
Второй аккорд — развязка боя, страшная геометрия смерти. Четыре трупа раскиданы по планшету так, словно все они повержены одним страшным ударом. В центре, на ступенях трона, крестом раскинув руки, лежал на черном плаще Гамлет. Мертвое лицо принца приподнято и обращено в зрительный зал. Внизу, у его ног, ближе к рампе, упал бездыханный Лаэрт, его тело, как бы продлевая линию тела Гамлета, по диагонали рассекало планшет. Наверху, под прямым углом к этой линии, почти касаясь головой головы сына, распростерта Гертруда. Король Клавдий в смертной судороге ухватился руками за ступеньку, его труп застыл в нелепой и странной позе. Одно короткое мгновение стояла перед глазами зрителей в полной тишине эта мрачная, жестокая картина. Занавес закрывался.
Третий аккорд — раздавались звуки фанфар. Занавес открывался, и вся картина тотчас преображалась. Ширмы в глубине сцены раздвинулись, в образовавшемся высоком проеме показалось великое множество серебряных, поблескивающих, неостановимо движущихся пик. Музыка марша победно гремела, все пространство озарялось сиянием. «Промелькнуло одно знамя, другое, третье, — рассказывал рецензент. — Все громче и сильнее звучит музыка, десятки и сотни копий вздымаются над стенами, пышно и величественно колышутся великолепные сверкающие знамена, и так их много, что нельзя охватить взглядом»175. Окруженный воинами в серебряных шлемах и серебристых одеяниях, весь в белом, высокий, спокойный, с серебряным нимбом за спиной, вступал в пределы сцены Фортинбрас — И. Берсенев и останавливался, потрясенный, над телом Гамлета. Правая рука Фортинбраса опиралась, как на скипетр, на огромный блистающий меч. Войско Фортинбраса выглядело как небесное воинство, сам он — как светоносный архангел.
Все это величественное зрелище подтверждало слова, которые Горацио произнес тотчас после смерти Гамлета: слова о том, что «хоры ангелов» отнесут «милого принца» к месту упокоения. По знаку Фортинбраса воины склоняли знамена над Гамлетом, поднимали его на руки и несли вверх по ступеням. Когда тело Гамлета на вытянутых ввысь руках воинов плыло над их головами, словно возносясь в небо, трубы, рыдая, выпевали мелодию похоронного марша.
Просветленность финала подводила смысловой итог трагедии. «Серебряный блеск победоносного Фортинбраса — вечная юность будущего дня», — писал Волконский176. Смерть героя влекла за собой обновление жизни. И Крэг и Станиславский были единодушны в этом вопросе, оба считали, что, вопреки давно утвердившейся традиции, Фортинбрас со своим воинством должен прийти.
После премьеры, поразившей и взбудоражившей Москву, Крэг охотно давал интервью, в которых с благодарностью отзывался о Художественном театре и с восхищением — о Станиславском. Однако на душе у него все-таки было смутно. Недаром на прощанье он писал М.П. Лилиной: пусть Станиславский в будущем «работает один, и это самое лучшее, что я могу ему пожелать, т. к. он великий человек»177. В этих словах выражена подлинная любовь к Станиславскому, но, конечно, и горечь, вызванная тем, что далеко не все задуманное в «Гамлете» удалось воплотить.
Тогда, в преддверии нового 1912 г., сорокалетний англичанин не предполагал, что московский эксперимент останется единственным во всей его биографии грандиозным реальным свершением, что день 23 декабря 1911 г. станет днем, с которого начнется действительная сценическая жизнь театральных идей Гордона Крэга.
Примечания
*. Тексты бесед Крэга и Станиславского весной 190Э г. здесь и далее публикуются по записям, хранящимся в Музее МХАТ, архив КС, № 1277—1280. В некоторых случаях сделаны уточнения по записям Урсулы Кокс, опубликованным в Англии.
**. Запись Станиславского, сопровождаемая зарисовками крэговских мизансцен, опубликована в «Ежегоднике МХАТ» за 1944 г. М., 1946, с. 650—670.
***. В 1909 г. Станиславский приобрел книгу «Хатха-Йога. Йогийская философия физического благосостояния человека. Соч. Рамачарака, перевод под редакцией В. Синга» (СПб., 1909) и, видимо, внимательно ее штудировал.
****. Почти через год после премьеры «Гамлета» Станиславский все еще мечтал «довести до конца идею Крэга» и добиться смены декораций «на глазах зрителей, без опускания занавеса» (Виноградская, т. 2, с. 347). Но эта надежда так и не осуществилась.
5*. Оба режиссерских экземпляра хранятся в музее МХАТ. Помимо них существовал и третий — режиссерский экземпляр Крэга, который ныне находится в Национальной библиотеке в Париже.
6*. Идея «беременной Офелии» принадлежит еще Мейерхольду (См. Козинцев Г. Пространство трагедии. М., 1973, с. 95).
1. Станиславский, т. 1, с. 344.
2. Там же, с. 479.
3. Строева, с. 282—283.
4. Станиславский, т. 1, с. 335.
5. Там же, с. 137.
6. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969, с. 169.
7. Станиславский, т. 1, с. 279, 285, 304—306, 476.
8. Петров Н.В. 50 и 500. М., 1960, с. 62.
9. Станиславский, т. 1, с. 477.
10. Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. М., 1976, с. 554.
11. Станиславский, т. 1, с. 322.
12. Музей МХАТ, архив ВЖ, № 7.
13. Craig Edward, p. 379.
14. Виноградская, т. 2, с. 118.
15. Senelick, p. 56.
16. Craig Edward, p. 246—247.
17. Станиславский, т. 5, с. 414—415.
18. Театр, 1908 г., 18 окт.
19. Craig E.G. On the art of the theatre. L., 1968, p. 132—136.
20. Senelick, p. 60—61.
21. Craig E.G. On the art of the theatre, p. 133.
22. Станиславский, т. 7, с. 414.
23. Там же, т. 1, с. 333—337.
24. Там же, т. 7, с. 414.
25. Немирович, т. 1, с. 465—466.
26. Станиславский, т. 5, с. 418, 461.
27. Немирович, т. 1, с. 463—464.
28. Станиславский, т. 5, с. 419.
29. Виноградская, т. 2, с. 160.
30. Строева, с. 224.
31. Блок А.А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М.; Л., 1962, с. 359.
32. Станиславский, т. 1, с. 336.
33. Craig Edward, p. 251.
34. Чушкин, с. 29.
35. Станиславский, т. 7, с. 421.
36. Музей МХАТ, архив КС, № 2116.
37. Полякова Е.И. Станиславский — актер. М., 1972, с. 391.
38. Музей МХАТ, архив КС, № 2113.
39. Леопольд Антонович Сулержицкий. М., 1970, с. 338.
40. Чушкин Н.Н. О художнике Егорове и «Гамлете» в МХТ. — Театр, 1970, № 1, с. 96.
41. Виноградская, т. 2, с. 170—171.
42. Станиславский, т. 1, с. 339.
43. Музей МХАТ, архив КС, № 1301.
44. Виноградская, т. 2, с. 179.
45. Немирович, т. 1, с. 474.
46. Станиславский, т. 7, с. 431.
47. Там же, с. 433.
48. Анненский И. Книга отражений. М., 1977, с. 165.
49. В поисках реалистической образности. М., 1981, с. 207.
50. Музей МХАТ, архив КС, № 1392.
51. Анненский И. Указ. соч., с. 163.
52. Senelick, p. 81.
53. Станиславский, т. 7, с. 429.
54. Там же, с. 370.
55. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977, с. 274.
56. Craig Edward, p. 251.
57. Станиславский, т. 1, с. 336.
58. Senelick, p. 76.
59. Станиславский, т. 1, с. 348.
60. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд, с. 169.
61. Немирович, т. 2, с. 542.
62. Станиславский, т. 4, с. 157.
63. Музей МХАТ, архив КС, № 676.
64. Станиславский, т. 1, с. 345, 347, 425.
65. Там же, т. 7, с. 449, 451.
66. Craig Edward, p. 259.
67. Виноградская, т. 2, с. 243.
68. The Mask, vol. 7—8, 1915, N 2, p. 109—115.
69. Станиславский, т. 1, с. 346.
70. Марков П.А. В Художественном театре, с. 111.
71. Музей МХАТ, архив КС, № 1282.
72. The Mask, vol. 3, N 1—3, p. 34.
73. Станиславский, т. 1, с. 334.
74. Senelick, p. 79, 80.
75. Эфрос Н.Е. Московский Художественный театр 1898—1923. М.; Пг., 1924, с. 358.
76. Чушкин, с. 46.
77. Там же, с. 17.
78. Виноградская, т. 2, с. 243.
79. Там же, с. 249.
80. Станиславский, т. 7, с. 489, 506.
81. Петров Н.В. 50 и 500, с. 61.
82. Л.А. Сулержицкий, с. 480.
83. Станиславский, т. 7, с. 511—512, 515.
84. Виноградская, т. 2, с. 279.
85. Строева, с. 273.
86. Станиславский, т. 7, с. 523.
87. Виноградская, т. 2, с. 286.
88. Л.А. Сулержицкий, с. 484.
89. Театр и драматургия, 1935, № 11, с. 27.
90. Станиславский, т. 7, с. 531, 532.
91. Виноградская, т. 2, с. 307, 310, 311.
92. Bablet, Craig, p. 187—188.
93. Станиславский, т. 7, с. 532.
94. Музей МХАТ, архив КС, № 1291.
95. Ольга Владимировна Гзовская. М., 1976, с. 283, 287, 290.
96. Коонен Алиса. Страницы жизни. М., 1975, с. 130—131.
97. Станиславский, т. 1, с. 338—339.
98. Чушкин, с. 30—32.
99. Музей МХАТ, архив КС, № 1297.
100. Чушкин, с. 31.
101. Виноградская, т. 2, с. 309.
102. Там же, с. 308—309.
103. Там же, с. 313.
104. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971, с. 265.
105. Илья Сац. М.; Пг., 1923, с. 90.
106. Чушкин, с. 33, 133, 137.
107. Эфрос Н.Е. Указ. соч., с. 332, 338, 339.
108. Чушкин, с. 47.
109. Виленкин В.Я. Качалов. М., 1976, с. 31.
110. Чушкин, с. 55, 71.
111. Виленкин В.Я. Указ. соч., с. 31.
112. Чушкин, с. 131—133.
113. Ежегодник МХАТ, 1948, т. II. М., 1951, с. 476.
114. Коонен А. Указ. соч., с. 113.
115. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, ч. 2. М., 1972, с. 105—106.
116. Южный край, 1911, 28 дек.
117. Речь, 1911, 24 дек.; 1912, 5 и 7 апр.
118. Вырезка из газеты хранится в Музее МХАТ.
119. Московские ведомости, 1911, 29 дек.
120. Новое время, 1911, 30 дек.
121. Русское слово, 1911, 24 дек.
122. Биржевые ведомости, 1912, 4 апр. (веч. вып.).
123. Речь, 1911, 24 дек.
124. Ежегодник императорских театров, 1912, вып. 11, с. 57.
125. Кугель А.Р. Качалов. М.; Л., 1927, с. 19.
126. Новая жизнь, 1912, № 7, с. 201—203.
127. Чушкин, с. 14, 42, 107, 108, 145, 146, 151, 153, 173.
128. Московские ведомости, 1911, 29 дек.
129. Senelick, p. 110.
130. Кубанский край, 1912, 10 февр.
131. Санкт-Петербургские ведомости, 1912, 5 апр. (веч. вып.).
132. Речь, 1912, 5 апр.
133. Голос Москвы, 1911, 31 дек.
134. Обозрение театров, 1912, 6 апр.
135. Ежегодник императорских театров, 1912, вып. II, с. 44—47.
136. Речь, 1912, 6 апр.
137. Волконский С. Художественные отклики. СПб., 1912, с. 122—123.
138. Русское слово, 1911, 24 дек.
139. Театр и искусство, 1912, № 12, с. 285.
140. Санкт-Петербургские ведомости, 1912, 5 апр. (веч. вып.).
141. Утро России, 1911, 24 дек.
142. Студия, 1912, № 14, с. 2.
143. Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982, с. 396.
144. Новая жизнь, 1912, № 7, с. 198.
145. Волконский С. Указ. соч., с. 118.
146. Новости сезона, 1911, № 2314.
147. Русские ведомости, 1911, 24 дек.
148. Волконский С. Указ. соч., с. 119—120.
149. Станиславский, т. 7, с. 431; т. 1, с. 340.
150. Craig E.G. Towards a new Theatre. L. — Toronto, 1913, p. 81.
151. См. перевод М. Морозова в кн.: Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. М., 1954, с. 339.
152. Пастернак Б. Воздушные пути, с. 394.
153. Тэн Ип. Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы. СПб., 1871, с. 380.
154. Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 1967, с. 83.
155. Санкт-Петербургские ведомости, 1912, 5 апр. (веч. вып.).
156. Сибирская газета, 1912, 1 янв.
157. Новая жизнь, 1912, № 7, с. 197.
158. Раннее утро, 1911, 28 дек.
159. Театр и искусство, 1912, № 3, с. 77.
160. Сибирская жизнь, 1912, 1 янв.
161. Музей МХАТ, архив КС, № 1279.
162. Русские ведомости, 1911, 24 дек.
163. Театр и искусство, 1912, № 12, с. 267.
164. Русские ведомости, 1911, 24 дек.
165. Чушкин, с. 335.
166. Соловьев В. Собр. соч., т. VIII. СПб., 1903, с. 263.
167. Обозрение театров, 1911, 30 дек.
168. Утро России, 1911, 24 дек.
169. Новая жизнь, 1912, № 7, с. 201—202.
170. Музей МХАТ, архив КС, № 1280.
171. Чушкин, с. 116—117.
172. Южный край, 1911, 28 дек.
173. Московские ведомости, 1911, 29 дек.
174. Новая жизнь, 1912, № 2, с. 163.
175. Сибирская жизнь, 1912, 1 янв.
176. Волконский С. Указ. соч., с. 122.
177. Виноградская, т. 2, с. 317.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |