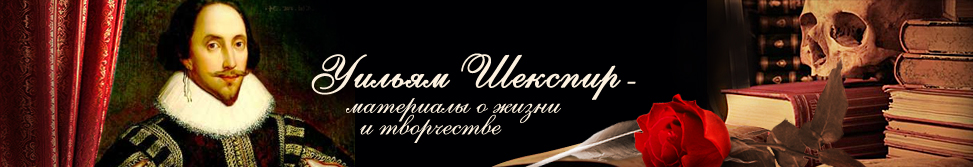Разделы
Рекомендуем
• Купить вилочный погрузчик грузоподъемностью 7 тонн у Еврокара-плюс — значит сделать.. . Коробка передач TCM (Япония) гарантирует плавное переключение передач и высокую производительность. Сервоусилитель с барабанными тормозами обеспечивает мгновенную остановку погрузчика по команде оператора. Откидная крышка отсека АКБ обеспечивает удобство технического обслуживания.
Счетчики
Малый мир человека
Фраза принадлежит Шекспиру. Ее произносит придворный, сообщая Кенту, ищущему Лира, что старый король попал в бурю и —
Всем малым миром, скрытым в человеке,
Противится он вихрю и дождю.(III, 1, 10. БП)
Это выражение возвращает нас к системе мировоззрения шекспировского времени. Согласно ей каждая сфера жизни в своих пределах повторяет общие законы бытия. Вселенная и весь великий мир устроены гармонично. Гармонична и каждая часть его.
Тот же принцип составляет основу человека как живого существа. Он — маленькая копия вселенной, разделен на сферы или части, каковыми являются его органы. Между человеком как живым существом и государством как своего рода организмом существует соответствие. О тех соответствиях, которые существуют между государственным и человеческим организмом, говорит в «Кориолане» Менений Агриппа, пытаясь успокоить бунтующий народ. Он рассказывает такую притчу:
Однажды возмутились против чрева
Все части человеческого тела,
Виня живот за то, что, словно омут,
Всю пищу поглощает он, а время
Проводит в лени и безделье праздном,
Тогда как остальные члены ходят,
Глядят и слышат, чувствуют и мыслят.
Друг другу помогая и служа
Потребностям и устремленьям общим
Родного тела.(I, 1, 99. ЮК)
Отвлечемся от политической морали, которую хочет вывести из этого сравнения Менений Агриппа, и сосредоточим внимание только на ренессансной «физиологии». Подобно тому, как в государстве у каждого сословия своя функция в общей гармонии, так и члены тела имеют свои задачи, подобные людским. Глаз — бдительный страж, чело — носит венец, то есть является главой малого мира человека, сердце — советчик во всех делах, язык — вестник, трубач, нога — конь, рука — воин. Именно так определяет функцию каждой части тела первый горожанин, подхватывающий сравнение сенатора (см. I, 1, 119). Менений заключает свою притчу, приводя ответ живота взбунтовавшимся членам:
Живот неторопливый был разумней
Хулителей своих и так ответил:
«Вы правы в том, мои друзья сочлены,
Что общий харч, которым вы живете,
Мне первому идет. Но так и надо.
Затем, что телу призван я служить
И житницей и лавкой. Не забудьте,
Что соки я по рекам кровяным
Шлю к сердцу во дворец и к трону мозга.
Что по извивам и проходам тела
Все — от крепчайших мышц до мелких жилок —
Лишь я питаю жизненною силой.
Но, добрые друзья мои, хоть всем вам...
... и не видно.
Чем каждый в одиночку мне обязан,
Я вправе заключить, что отдаю
Вам лучшую муку и оставляю
Лишь отруби себе.(I, 1, 131. ЮК)
В словах Менения Агриппы очень наглядно выражен принцип согласия, который лежит в основе работы организма. Но все это, так сказать, первая ступень. Тело обладает внутренними органами, имеющими значение для характера человека.
Очень важную роль играют гуморы (humours) — разные виды жизненной влаги, определяющие различные темпераменты. Их всего четыре: кровь (sanguis), желчь (choler), флегма (phlegm) и меланхолия, откуда происходит до сих пор бытующее определение темпераментов — сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.
Тип меланхолика, появившийся в литературе и драме конца XVI — начала XVII века, служил выражением разочарования, охватившего значительные слои общества. Тогдашняя психология сначала находила этому только физиологическое объяснение — в том, что у многих людей разлился в теле гумор меланхолии. Великий писатель начала XVII столетия Роберт Бертон в «Анатомии меланхолии» (1620) показал не только физиологические, но и общественные причины этой повальной эпидемии, которую с полным правом можно назвать «болезнью века».
Первый меланхолик у Шекспира — венецианский купец Антонио. Появляясь перед нами, он жалуется: «Не знаю, отчего я так печален» (I, 1, 1). В этом настроении он пребывает до конца. Образ этот подан с симпатией. В «Как вам это понравится» выведен другой тип меланхолика — Жак, и его мрачное умонастроение явно осмеивается. Но в нем не только преобладает гумор меланхолии. В нем сильно играет желчь, и он жаждет «всю правду говорить», чтобы «прочистить желудок грязный мира» (II, 7, 59). Образ «желудок мира» может быть понят из аналогии, приводимой Менением Агриппой. Желчность сочеталась с недовольством.
Когда Гамлет признается Розенкранцу и Гильденстерну, что «последнее время — а почему, я и сам не знаю — я утратил веселость... на душе у меня тяжело... из людей меня не радует ни один; нет, также и ни одна...» (II, 2, 337), — он называет типичные проявления меланхолии. Добавим, что одним из проявлений меланхолии считалось пренебрежение к своему внешнему виду и одежде. Розалинда, перечисляя признаки меланхолии, называет «исхудалые щеки», «ввалившиеся глаза», «нестриженую бороду», «Затем чулки ваши должны быть без подвязок, шляпа без ленты, рукава без пуговиц, башмаки без шнурков, и вообще все в вас должно выказывать неряшливость отчаяния» (III, 2, 392). Сравним с этим описанием рассказ Офелии о том, в каком виде появился перед ней Гамлет:
в незастегнутом камзоле,
Без шляпы, в неподвязанных чулках,
Испачканных, спадающих до пяток,
Стуча коленями, бледней сорочки
И с видом до того плачевным...(II, 1, 78. МЛ)
Сам Гамлет корит себя за то, что у него
печень голубиная — нет желчи,
Чтоб огорчаться злом.(II, 2, 605)
Мы видим, таким образом, в характеристиках персонажей признаки, заимствованные из понятий псевдонауки средних веков и Возрождения. И это еще не все.
Особенно существенным является положение о соотношении души или разума и телесных функций в человеке. Разум — та духовная субстанция, которая приближает человека к богу и ангелам. Это — высшая способность человека. В идеале в нем должны гармонически сочетаться духовные и телесные способности. Один из гуморов особенно опасен для человека — кровь. Не подчиняясь разуму, она может увести человека с нормального жизненного пути, взыграть и разгорячить настолько, что разум окажется замутненным.
Идеальный человек, по определению Гамлета, — тот.
Чья кровь и разум так отрадно слиты,
Что он не дудка в пальцах у Фортуны,
На нем играющей.(III, 2, 74. МЛ)
Борьба разума и крови в человеке, как отражение борьбы добра и зла в его природе, проходит через трагедию «Отелло» в качестве одного из основных мотивов. Отелло случалось в жизни подчиняться веленьям крови, в чем он признается сенату, когда его обвиняет Брабанцио, но благородный мавр перед небесами каялся «чистосердечно в согрешеньях крови» (I, 3, 123). Отелло сумел подчинить кровь разуму, и именно такого Отелло полюбила Дездемона.
Яго тоже знает о том, что разум должен держать кровь в узде. Он поучает Родриго: «Если бы у весов пашей жизни не было чаши разума в противовес чувственности, то наша кровь и низменность нашей природы приводили бы нас к самым извращенным опытам. Но мы обладаем разумом, чтобы охлаждать паши неистовые порывы, наши плотские влечения, наши разнузданные страсти» (I, 3, 330. МЛ). Однако разум, в который верит Яго, — холоден, лишен теплоты душевных чувств и исключает любовь. Она для него — один из сорняков в саду жизни. Поэтому он презирает Родриго за то, что тот столько душевных сил отдает страсти. Любовь Отелло и Дездемоны он тоже считает горячкой крови (lust of blood; I, 3, 339) и заверяет Родриго, что она быстро пройдет. Он повторяет эту мысль и па Кипре: «Когда кровь утомится игрой» (II, 1, 229), — утешает он Родриго, — Дездемона пресытится Отелло.
Яго, конечно, лжет ему, но для нас интересно наблюдать, как все время возникает тема крови и разума в человеке. Адский замысел Яго в том и состоит, чтобы нарушить равновесие, которое воспитал в себе Отелло. Ночная потасовка на Кипре, фактически спровоцированная Яго, почти приводит к тому результату, которого он добивается. Вышедший на шум Отелло разгневан на тех, кто затеял драку:
Видит небо, кровь во мне
Готова свергнуть власть разумной воли,
И страсть, темня рассудок, начинает
Брать верх.(II, 3, 203. МЛ)
Здесь очень точно в терминологии эпохи описан душевный процесс, который мы будем наблюдать в драматических эпизодах превращения Отелло из разумного существа в слепца, одержимого страстью ревности. На этот раз Отелло удается совладать с собой. Но кровь возьмет верх над разумом, когда Яго возбудит его ревность. Стоило Яго растравить душу Отелло и уверить его, что Дездемона передарила Кассио платок, который он ей дал, как Отелло уже вне себя, и у него вырывается крик: «О кровь, кровь, кровь!» (III, 3, 451). Она уже затемнила его разум.
Это замечает и Лодовико, прибывший на Кипр, чтобы отозвать Отелло. Увидев, как мавр оскорбил Дездемону, ударив ее, уполномоченный сената и родственник Дездемоны крайне поражен. Он спрашивает Яго:
Ужели это — благородный Мавр,
Столь чтимый всем сенатом? Это — тот,
Кто не подвержен страсти?(IV, 1, 275. МЛ)
Яго с притворной скорбью признает: «Он очень изменился», «он не тот, кем должен быть». Лодовико высказывает предположение, что Отелло могло расстроить снятие его с поста главнокомандующего на Кипре: «Или письмо в нем распалило кровь?» (IV, 1, 286). Он тоже видит, что кровь возобладала над разумом Отелло, хотя истинной причины этого не знает.
Отелло поверил в измену Дездемоны. Он считает, что в ней взыграла кровь и сладострастие затмило разум, побудив осквернить их брачное ложе. Решив мстить за это, он именно в таких словах и выражает свое намерение — дословно: «твое ложе, запятнанное похотью, я запятнаю твоей похотливой кровью» («Thy bed, lust-stain'd, shall with lust's blood be spotted»; V, 1, 35). Впрочем, в последний миг он меняет решение:
Эту кровь я не пролью,
Не раню эту кожу ярче снега.(V, 2, 3. МЛ)
Когда Брут в нерешительности, не знает, остаться ли верным Цезарю или примкнуть к заговорщикам, он говорит о своем душевном состоянии, пользуясь сравнением, которое Шекспир впоследствии в более развитой форме вложит в уста Менения Агриппы:
Наш разум и все члены спорят,
Собравшись на совет, и человек
Похож на маленькое государство.
Где вспыхнуло междоусобье.(ЮЦ, II, 1, 66. МЗ)
В человеческом существе действует тот же закон старшинства, который распространен во всем мире. Вспомним слова Улисса:
Когда закона мы нарушим меру,
Возникнет хаос.(I, 3, 124. ТГ)
Когда происходит нарушение в малом мире человека, там возникает то же самое, что и в остальной вселенной, — хаос. И этого больше всего боится Отелло. Если Дездемона неверна, значит, распалась гармония его души, гармония всего мира: «если разлюблю, / Вернется хаос» (III, 3, 92).
Еще один круг понятий важен для постижения того, как выражается в пьесах Шекспира характер человека.
От древних греков было унаследовано учение о том, что мир состоит из четырех элементов — земли, воды, воздуха, огня. Их значение определялось согласно степени их телесности. Самым низким элементом считалась земля, самым высшим — огонь. Распространенным было соответствие между этими элементами и человеческим существом. Тело его приравнивалось к земле, кровь — к воде, дыхание равнозначно воздуху, а самая высокая часть человека, его духовная субстанция, наиболее близкая к божественности, уподоблялась огню.
Гармония человеческой личности выражается в том, что все стихии в ней расположены именно в том старшинстве, которое предписано законом природы, — земля и вода подчиняются воздуху и огню, то есть тело и кровь подвластны духу и разуму. В этом состоит идеал человека, и именно его имеет в виду Марк Антоний, говоря о Бруте после его смерти:
Прекрасна жизнь его, и все стихии
Так в нем соединились, что природа
Могла б сказать: «Он человеком был!»(V, 5, 73. МЗ)
Когда Яго уверял, что Дездемона доступна, он утверждал, что кровь в ней сильнее разума. Заметим: так говорил поручик, обращаясь к Родриго, и мы знаем, что злодеи у Шекспира ради своих целей не останавливаются перед тем, чтобы оклеветать хороших людей. Но наедине с собой они дают им справедливую оценку. Так происходит и с Яго. Уговорив Кассио обратиться за помощью к Дездемоне и отослав его, Яго размышляет, удастся ли это, и приходит к выводу — удастся, потому что она готова поддержать любое честное ходатайство, она, по его словам, «такого же благотворного склада, как свободные стихии» (II, 3, 348), то есть как воздух и огонь. Это высшая оценка человеческих достоинств; мы знаем, что, сказанная наедине и обращенная к публике, такая характеристика соответствует истине.
Понятия средневековой «психологии» и «физиологии», унаследованные Шекспиром, здесь затронуты крайне бегло. Он пользуется ими обильно. Но если термины Шекспира были средневековыми, чувства и характеры его героев соответствовали самым новейшим явлениям жизни. Душевные противоречия совсем не средневекового характера выражались еще в старых словах, но сущность характеров, поданных отчасти в таких понятиях, была ренессансной, более того — общечеловеческой и для последующих веков. С течением времени отжили наивные понятия древности, их стали воспринимать как поэтические условности, а часто и вовсе перестали замечать, и характеры Шекспира предстали перед нами в своем ренессансном величии, без средневековых довесок. Но, стремясь постигнуть творчество Шекспира в его подлинном виде, мы не можем отвлечься и от формы, ибо новое содержание рождалось в ее рамках, хотя и переросло их.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |