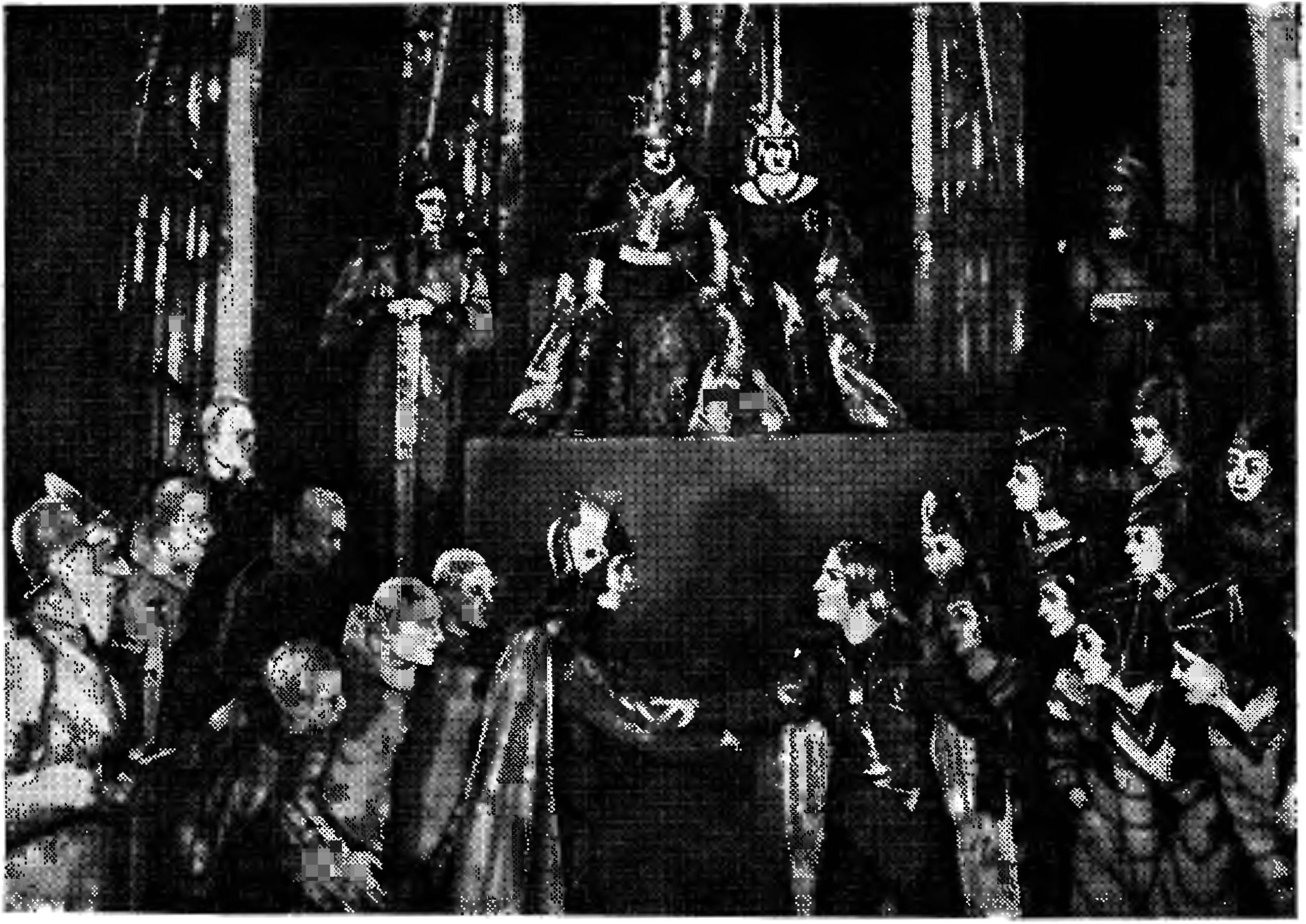Владислав Иванов. «МХАТ Второй в работе над "Гамлетом". Гамлет — Михаил Чехов»
С премьерой «Гамлета» 20 ноября 1924 г. Первая студия превратилась в новый профессиональный театр МХАТ Второй. Связав для себя эти два события задолго до того, как они произошли, студийцы готовились к ним с необычайной ответственностью и почти священным трепетом. Они брали на себя обязанность создать «торжественный» (по определению Луначарского) театр, который был бы в состоянии решать особые духовно-эстетические задачи. Свою миссию они не могли отчетливо сформулировать, но остро ощущали ее оригинальность в кругу театральных идей и эстетических принципов начала 20-х годов.
Еще в 1922 г., в самый разгар успехов формального театра, П. Марков предсказывал его скорый и неизбежный кризис, ибо тот отрекся от «внеэстетических и духовных основ творчества»1. Значение рационалистического пересмотра принципов сценического искусства, который произвел формальный театр, — для критика величина не абсолютная, а относительная, ибо оно заключается лишь в «очищении путей для театра духовного»2. Далее Марков делал чрезвычайно важный вывод о необходимости утверждения общезначимых духовных ценностей, вне которых сценическое искусство обречено на «катастрофическое самоизживание». Счет, предъявленный критиком, при всей беспощадности констатаций и прогнозов был основан на понимании судьбы формального театра как пути, а не тупика. Он связывал его будущее с процессом «собирания и очищения», с преодолением элементарности его идейных мотивов и побуждений.
Мучительный, кризисный, полный срывов и полууспехов путь, совершаемый Первой студией в то время вел ее от искусства душевного к искусству духовному. Двигалась она в этом направлении весьма обособленно и изолированно. Беря уроки у формального театра, усваивая его достижения часто поспешно и эклектично, студия в самом понимании своей миссии, в сущности, отвергала и опровергала его, ибо хотела искусство из «жизненного факта» превратить в «жизненный фактор, влияющий на самый ход развития мысли и дел»3. Студийцам был чужд как Камерный театр, тщательно оберегавший сферу эстетического от прямых посягательств извне, так и Мейерхольд этих лет с его идеями социальной маски и балаганным упрощением и пародированием традиционных духовных ценностей во имя преходящих агитационных задач. В идеале они жаждали спасения мира через преображение человека силами искусства. Студийцы оставались верными завету Сулержицкого «будить человеческое в человеке» не только в ранних спектаклях, но и в «Гамлете». Но теперь этот завет истолковывался на ином уровне и связывался с особыми надеждами, которые возлагались на трагедийный спектакль.
Для реализации нравственного императива Сулержицкого студия теперь искала глубокие и драматические пути. Решаясь представить всю трагическую сложность мира и человека, ее участники заведомо отказывались сглаживать мучительные противоречия в соответствии с обыденным человеколюбием. Жестокая правда должна была стать силой, преобразующей человека. Трагедия призывалась не для того, чтобы ввергнуть публику в хаос разорванных страстей, но, напротив, для того, чтобы его преодолеть и ценой жесточайших потрясений довести зрителя до катарсиса.
Если в романтико-академической трагедии тех лет нравственный абсолют тяготел к прописной морали, величие театрализованного героизма вытесняло сострадание трагической судьбе, а пышность сценического действия была призвана возместить отсутствующий катарсис, то такие спектакли Первой студии, как «Эрик XIV» и «Гамлет», представляли принципиально иную тенденцию истолкования трагедии. Они оказались откровенно враждебны дидактике. Это тем более парадоксально, что прежде-то морализаторская направленность Первой студии, начиная со «Сверчка на печи», была выражена в обдуманной, не составляющей никаких сомнений форме. Но, делая темой «Гамлета» судьбу «человека, переживающего катаклизм»4, находя в шекспировской трагедии универсальную ситуацию человеческого существования, режиссура (В.С. Смышляев, В.Н. Татаринов и А.И. Чебан) вполне отдавала себе отчет в том, что проповедь, учительство в их традиционном виде не совместимы пи с масштабом коллизии, ни с остротой заключенных в ней проблем. Дидактические и социально-утилитарные цели при всех возможных различиях равно препятствовали бы созданию трагедийного спектакля, внося корыстные и ограничивающие поправки. Воспитание проповедью, которая часто приводила к утрате инициативы в противостоянии обыденности, преодолевалось на путях к трагической этике, с этой обыденностью решительно разрывающей.
Утверждая свою позицию как противостоящую и формальному и академическому театру, Первая студия предлагала свой радикальный вариант духовного театра. Причем духовность становилась не только свойством спектаклей, но и темой, решаемой в духе трагедийно-экспрессионистском5.
«Гамлет» в МХАТ Втором, 1924 г. Гамлет — Михаил Чехов
В работе над «Гамлетом» сплелось множество проблем общеэстетических и сугубо театральных, философских и нравственных, над разрешением которых бились студийцы в те годы.
Наиболее трудноразрешимыми оказались проблемы общепостановочные и стилевые. По этой части спектакль на открытие не претендовал. Он был «продуктом высокой театральной культуры, которая на потребу себе выбирает все лучшее и пенное, что было уже найдено и создано»6. Глаз поднаторевшего театрального зрителя двадцатых годов легко определял источники режиссерских вдохновений: «от Рейнхардта — до Крэга и от Станиславского до Вахтангова»7. Имея продуманный и оригинальный подход к трагедийному спектаклю, создатели «Гамлета» в плане эстетическом стали жертвой эклектичной изобретательности. «Главнейшим оправданием "Гамлета" во МХАТ 2-м остается Чехов, — категорически сформулировал один из наиболее объективных критиков того времени и продолжил: — Только применительно к нему могут получить объяснение противоречивые формы спектакля»8. Следуя предлагаемому подходу, в данном исследовании хотелось бы остановиться прежде всего на одном из самых ярких и драматичных художественных явлений начала 20-х годов — Гамлете Михаила Чехова. Формы же спектакля предполагается ввести в круг работы настолько, насколько они находят себе объяснение и оправдание в этом актерском шедевре.
Искание путей к Шекспиру было для студийцев в то же время вопросом смысла и цели актерского мастерства, соотношения в нем «каллиграфичности» и духовности. Разрушая перегородки между сценическим и человеческим, они ставили мастерство в прямую зависимость от внутренней содержательности и значительности актера, ибо если он «живет эгоистически, живет собой, то это уже в значительной степени будет мешать нашей работе»9.
«Гамлет» в МХАТ Втором. Эскиз костюма Гамлета. Художник М. Либаков
Нравственная чистота являлась одним из главных требований, предъявляемых к актерам, занятым в «Гамлете», не только по соображениям этическим, но и эстетическим, потому что «нечистому человеку нечем играть». «Но высшая марка нечистоты — играть через ненависть, злобу», ибо человек, ослепляемый ненавистью и злобой, мало видит и еще меньше понимает как в жизни, так и на сцене.
По мысли студийцев, он может быть ловким и четким, но никогда обаятельным, а «чем актер необаятельнее, тем уже его амплуа»10. Он может произвести известное впечатление, но не более того. Только чистый человек, чуждый ненависти и злобе, может быть проницательным, зрячим к жизни во всей ее полноте и противоречивости: «и пакость увидит, и сумеет сыграть пакостника лучше, чем кто-либо другой»11. Эстетика и этика для студийцев — лишь различные стороны одного и того же явления. Они определяют друг друга и дополняют.
Мастерство не было определенной и неизменной величиной. Оно находилось в процессе постоянного пересмотра, приведения в соответствие с углубляющимся опытом. «Каллиграфичность» актерской техники здесь равнозначна бездуховности, она воспринималась как отказ впустить в себя боль и тревогу времени.
Другой серьезной опасностью, подстерегавшей студийцев, была так называемая «тонкая игра», под которой подразумевалась широко распространенная модификация изощренной психологической техники переживания. «Тонкой игре», при том что она обладает многими признаками мастерства, подвластен лишь самый поверхностный слой человеческой психики. Ее стихия — имитация психологической правды с помощью внешне достоверных приемов. Но она не выходит за пределы «животного плана и не годится для "Гамлета"»12.
Одна из главных причин, по которым «тонкая игра» получила такой резкий отвод, заключалась в том, что режиссура в «Гамлете» не видела ничего обыденного и привычного. Для нее «сам Гамлет не бытовой человек, а избранник, герой, гений человека». Приемы эти здесь бессильны, так же как и заведомо обречен подход к Гамлету как к очередной роли, хотя бы и очень выигрышной, ибо «нужно раскрыть в себе какие-то тайники, чтобы сыграть эту трагедию в области духа»13. «Тонкая игра» тем опаснее была для студийцев, что, в силах приспособиться, не изменяясь в своем существе, к самым различным целям, создавала обманчивую видимость приближения к ним. Она не приходила откуда-то со стороны чуждой и угрожающей силой, но коренилась в самих стенах студии, представляя собой облегченный и компромиссный вариант необходимых актерских принципов. Вступая на стезю трагического спектакля и стремясь в каждой роли искать «стихийные стремления», студийцы пытались дать антитезу «тонкой игре» с помощью «одухотворенной логики».
Особенно наглядно различия между художественной результативностью «тонкой игры» и насущно необходимой актерской техникой сформулировал М. Чехов в анализе встречи с Духом: «Нужно играть не животный страх, а такое состояние, как будто оказываешься в неведомых дотоле мирах» и «не за что ухватиться»14. Необходимость пересмотра прежнего мастерства диктовалась тем, что изменился предмет воплощения и толкования. Им стал не человек в ближайших бытовых обстоятельствах, а «человек, переживающий катаклизм». Причем изменения претерпели не только обстоятельства, их масштаб и характер, но и сам человек.
В той небольшой декларации, которую руководство театра опубликовало в программе спектакля и почти без изменения продиктовало многочисленным газетным интервьюерам, дана сжатая характеристика основных устремлений режиссуры. Здесь и педантичное деление всех действующих лиц на два лагеря. Один, возглавляемый Королем, — воплощение сил темных, консервативных. Другой, в котором лидером является Гамлет, представляют также Горацио, Бернардо, Марцелло, Франциско, Офелия, все актеры — это стан светлых. И между двумя силами находятся лишь Лаэрт и Королева, которые падают жертвой своей межеумочности. Полемично по отношению к «вековой традиции» авторы заявляют Гамлета, «протестующего, героического, борющегося за утверждение того, что составляет сущность его жизни»15, и обещают показать действие «стремительное, вихревое».
«Гамлет» в МХАТ Втором. Эскиз костюма Короля. Художник М. Либаков
Жила в этих предваряющих спектакль заметках отраженной жизнью черно-белая эстетика эпохи, какой она оформилась на левом фланге: ставка на героическое действенное начало, растворение отдельного и индивидуального силами массовыми и типовыми, персонифицирующими темное и светлое, доброе и злое, преобладание экспрессии над анализом,
Сводя истолкование «Гамлета» к ходовым формулам, театр имел на то некоторые основания, ибо можно сказать о спектакле и так. Однако в процессе репетиций режиссеры выражались гораздо красноречивее и принципиальнее. Если прежде трагической фигурой, гибнущей между двух миров, был Эрик, то теперь в этом положении оказывается всего лишь Лаэрт. При том достаточно жестком волевом нажиме, который произвели на шекспировскую трагедию в Первой студии, Лаэрта вполне могли растворить в одном из враждующих лагерей, но характерно, что его предпочли поместить в ситуацию Эрика, лишив ее трагической общезначимости и доминирующего положения в спектакле.
М. Чехов в процессе работы над шекспировской трагедией фиксировал новое, сравнительно с вахтанговским «Эриком XIV», понимание страдания и сценических средств его выражения: «Истерика — нехороший знак, потому что подана неочищенная форма страдания. Можно совсем чисто сыграть то, что сам пережил, переборол в себе»16. Но, вероятно, было бы слишком опрометчиво делать вывод, что ту тему, которая так мучительно и беспокойно жила в Эрике к моменту репетиций Гамлета, Михаил Чехов уже полностью «переборол». Она еще не превратилась в материал для уравновешенного, «аполлонического» творчества. Но общая эволюция, несомненно, подталкивала его именно в этом направлении. Многое в Гамлете Михаила Чехова проясняется через сравнение с его Эриком. Характер истолкования датского принца определяется не только постижением шекспировской трагедии, но и в не меньшей мере внутренним развитием трагической темы актера. Количество операций, проведенных над текстом, — огромные сокращения, перемонтаж, радикальная перестановка акцентов — все говорит о том, что М. Чехов не только постигал пьесу, но и «приспосабливал» ее к собственной сокровенной идее, которой не мог поступиться даже перед лицом Шекспира.
В «Эрике XIV» он сделал существом спектакля тему человека, гибнущего в столкновении двух миров. Его герой являл собой квинтэссенцию страдания. Он был одержим и помрачен болью, которая бросала его из крайности в крайность, заставляла метаться между нежностью и жестокостью. Над огромными тоскующими глазами взлетал крутой зигзаг обезумевших бровей. В срывающейся пластике то властных, то бессильных движений звучала тоскливая мелодия безнадежности и обреченности. Герой был ограничен личным существованием. Он ничего не решал, не выбирал, но только погибал на глазах. Эрик оказался всецело порабощен болью и этим отъединен от мира, от общезначимого трагедийного уровня существования.
Его сердце было истерзано не только чувством обреченности, но и невозможностью остаться самим собой перед надвигающейся «посторонней силой», встретиться с ней на сколько-нибудь сносных условиях, не утратив человеческого достоинства. Он метался в отчаянных поисках спасения и выхода, но как раз метания эту «власть чуждых ему сил»17 подтверждали и реализовывали. Того, что должно спасти, с каждым мгновением оставалось все меньше. Героя захлестывала и влекла стихия страдания и боли, растворяющая все человеческое и личностное. Эрик не мог подчинить себе боль и хоть сколько-нибудь осознать ситуацию, в которой оказывался, и оценить свои возможности в ней. Беда человека, бегущего от катаклизма, но им настигнутого, была дана с огромной тревожащей силой.
Только один момент осознания себя и преодоления страдания дарован герою, но он приходил лишь накануне гибели: «Перед отравлением Эрика его безумие спадает. Эрик переходит в созерцание. Он неподвижно застывает у трона, в то время как вокруг него нарастает движение — придворные сходятся, встречаются, расходятся, все стремительнее чертят нервный узор тревоги, по прямой, по изогнутой, под разными углами»18. И этот момент был ознаменован важным превращением. Эрик сбрасывал с себя тяжелый и пышный королевский наряд, воплощавший многое из того, что было непосильным бременем для его души и служило источником разрушительных соблазнов для его своеволия. Он оставался в «черном, словно иноческом платье»19. Преображенный герой выходил на путь смирения и самопознания.
Но финал был не в силах изменить общего характера истолкования судьбы человека, «которого тащат волоком по рытвинам и ухабам»20. Сама концепция героя как пассивной и безвольной игрушки надличных сил и внутренних страстей, связывала спектакль с жанром мелодрамы. Но мелодрама в данном случае выступала предвестницей и спутницей трагедии, с ней была связана и ее пришествие энергично готовила.
Отмечая всю сложность и противоречивость подступов Первой студии к трагедийному спектаклю, П. Марков резюмировал: «Тема боли и страданий была переведена в план трагедии»21. Она приобретала необходимый масштаб и общезначимость. Тем не менее трагическим героем Эрик XIV — М. Чехов еще не стал. Трагическое было реализовано лишь в частичной и предварительной форме. В этом смысле и к актеру можно отнести следующие слова о режиссуре спектакля: «Может быть, Вахтангов не дал театру трагедии. Но он ввел его в ощущение трагического»22.
Для М. Чехова опыт с Эриком XIV был и важным достижением в новой для него сфере, и существенным предостережением. Попытка решить трагическое только на уровне страдания заводила героя туда, где его подстерегал распад. Боль, лишенная духовных координат, часто принимала форму болезненности и патологии. Доведенная до предела, она требовала выхода в иной план.
В «Гамлете» «тема страдания и боли» была осмыслена радикально иным, нежели ранее, способом. Если в Эрике XIV все эстетическое оформление образа направлено к тому, чтобы раскрыть ее как властную неодолимую стихию, то теперь эта стихия организовывалась не только эстетически, но и духовно. Она соотносилась с универсальными ценностями.
Смещение акцентов коснулось почти всех существенных моментов. Теперь герой страдал не только за себя, но и за других. Чеховского Гамлета создавало напряжение, которое возникало между стихией страдания и мучительно-совестливым сознанием. Именно оно было силой, очищающей боль и преодолевающей се. Это преодоление давалось дорогой ценой, но оно вызывало к жизни нравственный императив, вынуждающий Гамлета к действию. Так человек страдающий превращался в человека сострадающего, из уклоняющегося от судьбы преобразился в идущего навстречу ей с чувством обреченности, но и миссии. «Эрик XIV» — трагедия индивидуального как уникального и неповторимого. «Гамлет» — трагедия человеческого как духовного и нравственного. Подобная поляризация может определиться лишь в итоге последовательных логических операций. Действительная картина гораздо сложнее и богаче оттенками. Тема поражения индивидуального существовала и в Гамлете, а мотив трагической человечности сказался и в Эрике.
В данном случае наиболее важным представляется обозначить доминанты этих образов, столь важные для понимания проблемы трагического в театральном искусстве 20-х годов.
Острейший парадокс состоял в том, что миссия трагического актера эпохи выпала на долю артиста, который по всем статьям рассчитывать на это не мог. Даже Станиславский, непримиримый противник системы амплуа и нормативного подхода к проблемам жанра, принимая М. Чехова в «Гамлете», трагическим актером его тем не менее не считал.
Михаил Чехов пришел в трагедию, где преобладали присяжные трагики, как непрошеный и непосвященный гость. Его привели сюда не амбиция и не логика актерского развития. Решающую роль сыграли причины не эстетические, но человеческие. Его окликнула и втолкнула в сферу трагического сама эпоха, не осведомляясь, какой дорогой он шел и какая эстетика ближе всего его сердцу.
Трагедии стал необходим прежде всего тот М. Чехов, каким он был вне сцены — русский интеллигент, нежное и уязвимое дитя великой гуманистической культуры, которого революция, «сметающая ветхие избушки доброты, человечности и других мелких чувств»23 застала врасплох. Со своей болью вкривь и вкось он прошелся по двум драматургическим конструкциям, иногда совпадая с ними, но чаще преодолевая их, и вклинился в сознание поколения мучительным, но и светлым потрясением. В этих ролях Михаил Чехов не лицедействовал, но жертвенно отдавался надличной трагической стихии, которая через него искала разрешения и исхода. Здесь бунтовал и требовал внимания «внутренний человек», оттесненный и, казалось, навсегда дискредитированный искусством внешних характеристик, утвердившимся в начале 20-х годов.
Обессиливающая и изматывающая «предгрозовая духота» первых сцен была призвана с исчерпывающей силой показать невозможность для Гамлета способа существования, основанного на разъедающе тоскливом компромиссе со Двором как «символом земного благополучия, величия», со Двором как внедуховным людским устроением. Но благополучие и величие давались только ценой предельной обесчеловеченности и обезличенности: «Все приближенные Короля трактованы как сливающаяся воедино многоликая масса»24. Одетые в единообразные черно-серые одеяния, поблескивающие голыми черепами, они были лишены индивидуальных черт и реакций. Придворные реагировали на все одинаково и гротесково.
«Гамлет» в МХАТ Втором, Король Клавдий — Александр Чебан
Они имели значение только как «периферия Клавдия». Король — А. Чебан стал средоточием и кульминацией этого «мира мертвых», воплощенного в традиции Вахтангова, но без его виртуозности и темперамента.
В Короле наиболее масштабно в пределах спектакля была явлена «кристаллизация зла»25.
Приземистый, в одеянии из темно-красной ткани, отделанном медно-рыжей кожей, он был не просто злодей, но воплощение грубой, вульгарной, неодухотворенной плоти. Все телесное, чувственное в нем избыточно и кричаще. Его яркий, словно вырубленный рот был громок даже в минуты молчания. Но несмотря на все демонстрации силы и величия, у Короля не было внутренней уверенности в себе. Его терзал комплекс неполноценности. Тронная речь превращалась не в триумф, но в «пытку на троне»26. Его физическая мука преступления была по-своему не менее остра, чем душевная мука Гамлета. Пир Короля во второй сцене, построенный на контрасте растянутых, томительных ритмов и взрывов разгула под «гром пушек и литавры», оказался пиром без веселья, оргией бесноватых. Мрачно и исступленно наверстывали свое люди, «одержимые злыми духами»27.
А слева от трона, внизу, спиной к нему и вполоборота к зрительному залу поникла неподвижная черная фигура Гамлета — Михаила Чехова, фигура, затерявшаяся в массе, чуждая на этом празднике чумы: «Он еще не сказал ни звука, еще ни одного слова не сорвалось с бледных искривленных скорбью уст. Он молчит. И от медлительности этой, от рассеянно блуждающего взгляда веет такой обреченностью, таким страданием, такой вселенской тоской»28. Это описание первого появления Гамлета энергично вводит нас в тональность образа. Тема страдания и боли вырывается из-под контроля конкретной ситуации: смерть отца, скорое замужество матери. Она вызывается самим состоянием мира и участью человека в нем. Все только подтверждает его худшие опасения и предчувствия.
Существует свидетельство О. Пыжовой, помогающее через головы десятилетий и многих последующих Гамлетов реально представить и почувствовать меру страданий датского принца 1924 г.: «Смоктуновский прекрасно сыграл в кино, но сердце его Гамлета только оцарапано бедами мира, а у чеховского — разорвано»29. Это сравнение тем более заслуживает доверия, что автор менее всего склонен преувеличивать творческие возможности М. Чехова. И эта тема разорванного сердца, из которого капля по капле уходит жизнь, возникала с самого начала спектакля.
В ходе этой сцены происходила стремительная поляризация. Чем яростнее и взвинченнее становился разгул Клавдия («Хохот Короля точно хочет заглушить все звуки мира»30), тем глубже уходил в себя Гамлет. Его скрытая душевная жизнь становилась единственным убежищем. Она достигала огромного напряжения. В Гамлете нарастала внутренняя энергия сопротивления, которая требовала разрешения в движении и слове, но не находила его. На обращение Короля он не реагировал и не оборачивался, а только поднимал к зрительному залу полное муки лицо. И только после долгой, разрывающей всякие связи с окружающими паузы раздавался глуховатый, чуть надтреснутый, матовый голос. Так же медленно, как бы с затрудненным восприятием Гамлет отвечал на вопросы Королевы. Каждой фразе матери он напряженно искал разгадку и объяснение. В течение всей сцены он так и не обернулся ко Двору и не поднял на него глаза. Встреча так и не произошла.
Только когда королевская чета, а вслед за ней вся свита двинулись к выходу, он посмотрел «им вслед каким-то невидящим и одновременно пронизывающим взглядом»31. И теперь долго копившееся напряжение разряжалось: «так же как из скованной неподвижности тела вырывается жест, при первых же словах монолога он движением всего тела как бы стремится высвободиться из оков плоти»32.
Плоть как таковая в этом спектакле была представлена в основном со знаком минус. Она — стихия негативных сил, низменных страстей. Она — предмет похоти или преступлений. Телесное понимание жизни высказывают Клавдий, Полоний, придворные. Но если учесть, что все они представляли «мир мертвых», то становится ясной вся двусмысленность ситуации. В спектакле смерть интерпретировалась не как беда неодухотворенной плоти, но как образ и подобие ее. Плоть — это стихия непросветленного, физического страдания, воздействуя на которую угрозами и
«Гамлет» в МХАТ Втором. Сцена из спектакля
посулами, Двор может добиться своего. На этом уровне Гамлет беззащитен.
Подготовленное подобным образом появление Духа неотвратимо следовало как ответ на некий внутренний зов Гамлета и в то же время как внеличный, роковой знак того, что мир оказался на путях кровавых потрясений. Встреча с Духом стала для чеховского героя тем событием, что спасало от отъединения, от прозябания, но и обрекало на неизбежную гибель. Интересно, что тень отца, призрак в ходе репетиций всегда выступал только под именем Духа, которому придавалось не меньшее значение, чем самому Гамлету. Подобное переименование, вероятно, было вызвано тем, что театру оказалось необходимо подчеркнуть содержание ценностное и положительное. Тема Духа в процессе работы над спектаклем раскрывалась как некий от века данный духовный абсолют. Он жаждет воплощения в человеке и человечестве, обладает немалыми для этого возможностями, и в то же время его реальные завоевания ничтожно малы, ибо землю оккупировали силы зла, идеи бездуховного людского устроения. Более того, само «небо арестовано землей»33. Но это соотношение никак не окончательно. И теперь Дух мобилизует силы и пытается перейти в наступление. Так, весьма метафизично и действенно, отвлеченно и вполне конкретно применительно ко времени театр представлял движущую пружину трагедии.
Такого рода трактовка продиктовала сценическое решение. Театр отказался от традиции понимания Духа как специфической роли, подлежащей актерскому исполнению, п обозначил его присутствие с помощью световых и звуковых эффектов.
Гамлет — Михаил Чехов
В потоке льющегося сверху света неподвижно застывший и вибрирующий, как натянутая до предела и готовая порваться струна, Гамлет вслушивается в слова Духа, которые «звучат вокруг, отовсюду и наполняют все пространство в мощном ритме незримого хора мужских голосов»34. Каждую услышанную фразу он повторял, «сохраняя медленный ритм, мелодию и интонацию. Но тут же в размеренный рассказ отца стремительно врывались его собственные, полные боли и ужаса возгласы»35.
Утрачивая «земной фундамент», герой обретал новое трагическое мировосприятие. Не существовало соответствующих слов и сил, чтобы поведать, рассказать о нем. Его можно только «спеть, сыграть, простонать»36 (курсив мой. — В.И.). Мир всесторонне и решительно плох, но тем не менее нравственный абсолют существует, и он неистребим. Он посылает Гамлета в мир, чтобы действовать. Там, где общепринятая традиция находила трагедию бездействия, театр изыскивал возможность раскрыть трагедию действия, необходимого и обреченного, этически оправданного и этику изменяющего.
Встреча с Духом потрясала чеховского Гамлета, доводила до полного изнеможения. Но это потрясение оказывалось сложным и неоднородным по своему эмоционально-смысловому составу. Конечно, весть о том, что отец был убит, страшна, но она только подтверждала его худшие опасения, оставляла в кругу прежних представлений о жизни. В конечном итоге Михаил Чехов нашел ответ на вопрос, который задавал в одном из писем, когда спектакль еще только замышлялся: «Что вышло для Гамлета из того, что он встретился с Духом? Неужели только то, что он узнал, кто убийца?»37 Ответ был найден широкий и радикальный. Гамлету открывалось, что мир Двором не исчерпывается, что существуют другие сферы, где полномочен и властен Дух как целостный и универсальный идеал. II это знание превышало меру человеческих сил: «Гамлет — Чехов лежал ничком посреди сцены и еле слышным голосом отвечал на зов Горацио и Марцелла»38. Его потрясенное и разорванное сознание было не в силах «вместить сие», собрать воедино планы реальности. Он отвечал друзьям несвязно и невпопад, с трудом пробираясь через душевный хаос. На вопрос: «Где вы, принц?» — чеховский герой недоуменно переспрашивал: «Я?» «Он сам не знает, где же он... И вдруг, точно найдя самого себя, с изумлением открывает, что вернулся из другого мира: "Здесь!!!"»39 Для Гамлета «Я» и «Здесь» теряли свой привычный смысл, превращались в проблему, которую нужно заново решать.
Обретая опору в причастности Духу, чеховский герой находил возможность внезапного и острого перехода к волевой собранности и уверенности знающего.
Так истолкованная встреча оказалась решающей для спектакля. В ней определился тот уровень трагического, который остался недоступен в «Эрике XIV»: «"Зачем же я связать рожден?" — острейший момент осознания миссии. Моление о чаше. Гамлет принимает свой Крест»40. Из душевной муки и вселенской тоски он оказался окликнут и призван к великой задаче, которая не может посулить ничего, кроме страстного пути. «Уже в монологе "Распалась связь времен..." Гамлет — Чехов как бы дает разгадку своего трагического замысла. На грани двух эпох, с душой, отравленной бесплодными иллюзиями, с пытливой стремительностью бросающийся в водоворот борьбы, стоит этот человек с льняными волосами и печальным, но отражающим волю борца лицом. Не нытье, а отчаянный вопль вырывается из его уст: проклятье звучит, как звон рапиры»41.
Героическое начало в датском принце не только укреплялось, но и разлагалось. Преодолевая традицию пассивного, рефлектирующего Гамлета, М. Чехов выносил на поверхность сценического действия волевой энергичный порыв. Казалось бы, актер предварял героизирующие трактовки 30-х годов. Но при внешнем сходстве гораздо важнее глубинные, непреодолимые различия. Безмятежные и простые Гамлеты последующего десятилетия, чуждые какой-либо расколотости и антиномичности сознания, несли в себе поэзию решительных действий без лишних помышлений. В них воплотился дух силы. Тогда как чеховский Гамлет побеждал силой духа. В спектаклях тридцатых годов часто происходила подмена трагедии героической драмой. МХАТ Второму удавалось удержаться в сфере трагического, хотя это давалось ценой немалого напряжения. Гамлета приходилось вести «тернистым путем распада, формирования», чтобы не превратить спектакль в «шествие уже сформировавшегося рыцаря»42. Михаил Чехов подчеркивал: «Именно тернии-то нас занимают в этой постановке»43.
Героический подъем Гамлета оборачивался трагическим ликом. Выводя на сцену активного героя, актер снова и снова показывал, каким мучительным и болезненным стало для него «принятие миссии». Не радость прямого открытого деяния, но мука, почти нестерпимая, сопутствовала ему. Он действовал, наступив себе на сердце. Был задавлен со всех сторон возможностями, ни одна из которых не могла вместить его в полный человеческий рост. Будешь действовать — погибнешь. Не будешь действовать — сгниешь. Принять миссию можно только ценой жесточайшего самоотречения. Отказаться от нее — утратить себя вовсе.
Существенным мотивом, усложняющим и взрывающим его действенный порыв, было то, что «Гамлет получил от Духа не только миссию: "Поди и убей Короля!" Гамлету открылось, что весь мир — зло»44. Долженствование убить Короля, тогда как весь мир лежит во зле, бросало двойной свет на миссию Гамлета. Убийством он заведомо связи времен не соединит и мир из грязи не поднимет. Но и смириться, принять зло как роковую, неодолимую данность, не в состоянии. Действие Гамлета мало что может изменить, но и не действовать он не может. И, принимая решение, он жертвовал жизнью, чтобы вернуть ей смысл.
Так, сохраняя стихию страдания героя как непременное условие трагического, М. Чехов находил в Гамлете силы не раствориться в ней. Истерзанный, казалось, уже навсегда раздавленный Гамлет собирал силы и делал шаг навстречу судьбе. Его поступь была временами неверной, срывающейся. Его рука, сжимающая рапиру, порой дрожала. Качество его активности вызывало иронию тех, кому по душе был более уверенный и нарядный героизм. Но Гамлет Михаила Чехова не принадлежал к плеяде тех людей, для которых героизм был давним призванием и ремеслом. Оружие ему вручила судьба, не спрашивая, прошел ли он школу фехтования. К действию был призван тип человека, доселе всегда уступавший сферу поступков и решений худшим силам жизни. Русский интеллигент, выведенный на подмостки Художественного театра на рубеже века, чья несудьба определялась не конкретной злой волей, а общим неустройством жизни, ее отчужденным безличным потоком, в 20-е годы был вынужден заново самоопределяться перед лицом мировых потрясений.
Часто сокращая и отжимая выражение мысли, актер возвращался к тому уровню, когда она еще «неотделима от первоначальных ощущений»45. Его интересовали не стройные умозаключения, но та философия, которая «рождается из боли и гнева человека»46. Философскую партитуру М. Чехов проигрывает на внесловесном уровне. Его мысль еще не отделилась от человека. Она растворена в нем, составляет движущую и определяющую существенность. Улавливая стоящий за тем или иным монологом жизненный порыв, актер переводил его на язык пронзительных переживаний. Сценическая манера игры «от паузы — к слову» приводила к тому, что монолог в своем существе уже был задан в предшествующей паузе. Сжигающее героя «необъятное внутреннее» вырывалось прежде слова. Со свойственной ему расчетливо-витиеватой корявостью фразы А. Белый сформулировал эту особенность чеховского слова так: «От паузы — к слову; но в паузе — силища потенциальной энергии, данной кинетикой жеста в миг следующий, где все тело как молния: из острия этой молнии, как из разряда энергии — слово: последнее всех проявлений»47. А. Белый предлагает схему упорядоченного и гармонического развития и скачка от внутреннего к внешнему, от жизненного порыва к слову, его оформляющему. На деле она далеко не всегда срабатывала с непременной последовательностью. Трагедия Гамлета — М. Чехова свершалась прежде всего в молчании. Ощущение величия темы, того духовного содержания, которое корчилось в муках несказанности, приводило к тому, что шекспировская фраза начинала восприниматься театром как «очень вялый словесный покров»48.
Гибнущий Эрик XIV был сыгран Чеховым в динамичной и экспрессивной манере. То, как его герой судорожно метался, как исступленно молил судьбу и жаловался на мир, только обнаруживало его внутреннюю пассивность, утрату чувства пути.
Принявший же миссию Гамлет оказывался крайне сдержанным в проявлении чувств, почти неподвижным за исключением нескольких мгновений, тщательно подготовленных. Его активность была лишена внешних опознавательных знаков. Истолкована как прежде всего внутренняя и духовная. «Чехов выявляет духовную страстность Гамлета нервно-напряженно, но вместе с тем без крика, тихим задушевным голосом»49.
В критической ситуации Гамлет полагался не на логику, не на здравый смысл, а на способность интуитивного постижения абсолюта. Терзаясь и подавляя неистребимую надежду на спасение, он поступал в соответствии с нравственным императивом, вопреки всем резонам и очевидностям житейской мудрости. Свою миссию он был не в состоянии объяснить и доказать. Истину, ему открывшуюся, он мог только «простонать».
Это знание было мучительным еще и потому, что душу героя болезненно язвило «сомнение в том, какой был "Дух"»50. В нем отразилось замешательство, временами настигающее самого Чехова как художника, преданного гуманистическим идеалам, перед лицом музыки, столь уверенно оповещающей мир об их крушении.
В более спокойном и обстоятельном толковании мотив сомнения был органичным и не очень броским штрихом, но в спектакле, где преобладало «стремительное, вихревое» действие и герой «на курьерских» мчал к финалу, он звучал резким диссонансом.
Но противостоянием Двора и Духа картина мира в спектакле МХАТ Второго не исчерпывалась. В образовавшийся зазор врывались вольной и обреченной стаей бродячие актеры, одетые в черное трико и голубые плащи. Их появление всегда сопровождалось легкой и светлой музыкой. Театр находил в них «идеальный образ искусства», «радость самодовлеющей игры»51. Актеры не только были свободны от зла, окружающего Гамлета, но и Духу служили как вольноотпущенники, а не рабы. «Гамлет ухватился за актеров не головой, не сознанием: он почувствовал приток сил из духовного мира»52. И встреча с ними преображала героя. Погружаясь в стихию «игры божественной, очищающей», он становился неузнаваем. Презираемая прежде плоть, скованная, страдающая, обретала необыкновенную выразительность. Пластика становилась раскрепощенной, гармоничной. Лицо, искаженное мукой, разглаживалось и просветлялось. Человек этический вступал в сферу влияния красоты.
Театр вводил пантомимическую сцену репетиции, в которой актеры разыгрывали убийство, а Гамлет режиссировал и показывал, как должно изображать Злодея. «Легкими поворотами всего тела условно обозначая трусливую оглядку»53, Чехов, почти не касаясь пола, крался через всю сцену. То была своеобразная балетная формула злодейства, когда негативная реальность претворяется в пластически совершенное, прекрасное искусство.
Оказавшись около спящего, Злодей — Чехов простирал над ним руки, затем отточенным движением доставал воображаемый флакон и двумя поворотами кисти как бы отвинчивал крышку. После этого плавным и осторожным движением вливал яд в ухо спящему Актеру — Королю. Внезапно Гамлет — Чехов выходил из образа Злодея, на миг останавливал на убитом взгляд и в смятении отходил в сторону, одной рукой закрыв глаза, другой — сжимая руку Актера и опираясь на нее. «Потрясающим был этот короткий момент»54. Так вольная игра в страшную жизнь не выдерживала встречного натиска последней. В нее врывалась непереносимая, не поддающаяся очищению боль.
После этого следовал еще один показ, где Чехов раскрывал технику, с помощью которой Злу удается манипулировать человеком, не обладающим волевым и духовным стержнем. Он подкрадывался к Актрисе — Королеве, предающейся отчаянию над телом мертвого мужа, «гордо выпрямлялся и прикладывал кисти обеих рук, как бы предлагая себя взамен»55. Она в ужасе отшатывалась. Тогда Гамлет — Злодей быстро проскальзывал у нее за спиной, «схватывал левой рукой за ее плечи, а правой скользил сзади по ее голове, затем по лбу и, наконец, пальцами крепко закрывал ей глаза, словно гипнотически ослеплял ее сознание и парализовал волю»56. То была не техника обольщения или запугивания, но суггестия, идущая в обход сознания, апеллирующая к подсознательным глубинам. Зло, по представлениям Михаила Чехова, обладает всеподчиняющей гипнотической силой, и люди, не обладающие достаточной духовной активностью и самостоятельностью, превращаются в его легкую добычу.
При том, что сценическое действие развивалось стремительно, в спектакле с особой тщательностью были обставлены мгновенья «страшной раздавленности», когда, ощущая предел своих сил, герой был готов воскликнуть, как в сцене с Духом: «Куда ведешь? Я далее нейду!». Именно в таком состоянии он начинал монолог «Быть или не быть?». Гамлета охватывала такая великая жажда покоя, что все, даже мысль о Духе и Короле, «уходит куда-то, отступает перед тайной жизни и смерти»57. Судорожно сжимая в руке яд, медленно двигаясь из глубины сцены прямо на зрительный зал, завороженный нестерпимой прямой дилеммой «Быть или не быть?», Гамлет — Чехов решал не отвлеченные философские проблемы, которые можно было бы отложить и на завтра, но чрезвычайно конкретный вопрос о собственном существовании. Однако сам монолог истолковывался не как форма вопроса, но как форма ответа. Решив «быть», Гамлет «принимает свой крест, необходимость борьбы»58. Ему не дано ни уйти в глухое подполье выживания любой ценой, ни найти спасение от юдоли земной в смерти прежде, чем он выполнит свою миссию. Так в спектакле возникал мотив внутреннего императива как судьбы, от которой не суждено уклониться.
Но Гамлет — Чехов изначально невмещаем в миссию, и, чтобы действовать, он должен стать иным. И в монологе подводной лирической струей клокотала тема прощания с собой. Здесь «последний раз мы видим Гамлета-человека, во всех последующих сценах Гамлет совсем иной»59.
«Бросок в публику», который происходил в этот момент, состоял в полной, жертвенной отдаче себя зрительному залу. Чехов не обращался к нему прямо, но в скрытой, трагически напряженной форме эта апелляция существовала. Зрителю середины 20-х годов предстояло решить, быть ли Гамлету и Михаилу Чехову. И каждый раз, побежденный силой источаемой на него любви ко всему человеческому, он принимал этот сгусток гуманизма, несмотря на все противопоказания эпохи.
Иные исследователи готовы видеть в Гамлете Михаила Чехова истошного индивидуалиста. Но на самом деле в нем изначально жила почти детская открытость ближнему, экзальтированная отзывчивость на человеческое в человеке. Его страждущая душа рвалась навстречу ласковому слову, живому участию. Он впадал почти в восторженное состояние при встрече с Марцелло и Бернардо. Не наперсником, а задушевным другом был Горацио, к которому Гамлет относился едва ли не сентиментально. Но приятие миссии стало для него трагическим, ибо отрывало от той любви к ближнему, которая ищет воплощения в страстных рукопожатиях, дружеских объятиях, теплых взглядах.
Призванный к решению великой задачи, Гамлет принимал обет самоотречения — оставить близких, перечеркнуть память о прошлом и надежды на будущее:
Я изглажу
Из памяти моей все, что помнил,
Все мысли, чувства, все мои мечты
И запишу в душе твои слова60.
Наибольшего напряжения этот мотив достигал в сцене с Офелией, которую М. Чехов играл как «прощание с любовью»61. Здесь нужно вспомнить, сколь глубокий и патетичный смысл вкладывал театр в образ Офелии. В ходе репетиций Чехов говорил о том, что «Офелия — часть души Гамлета, находящаяся в руках земли. Есть два Гамлета: одного зовут Гамлетом, а другого — Офелия»62. И она, которая мыслилась как «огромная интуитивная мудрость, чистота, стихия любви»63, оказывалась помехой на пути Гамлета. Отрекаясь от нее, принц отрекался от себя, «от воплощения этой стихии».
Это прощание разрывало Гамлету сердце. Он ее отвергал, ибо сам был отвержен судьбой от всего «слишком человеческого». Презирал и молил о любви. Голос звенел язвительно, а глаза были полны благоговения. Произносил «не любил», а на слове
Гамлет — Михаил Чехов
Гамлет — Михаил Чехов
«тебя» — жест нежности и восхищения: «Протянутые издали руки движутся сверху вниз, словно любуясь ею с головы до ног»64. То была жертва, приносимая на алтарь миссии. Гамлет был здесь и жертвователь и жертва, и мучитель и мученик. Им двигала «любовь, прошедшая через отречение»65. И ощущая его душевную муку, Офелия — М. Дурасова готова в свою очередь «отречением от себя облегчить страдание Гамлета»66.
В следовавшей за этим сцене «Мышеловки» Гамлет и Король экспериментировали, исследовали друг друга. Они узнавали о тайных мотивах и целях противника, но и выдавали свои. Задыхающийся, полный ужаса Король вскакивал со своего места и бессознательно повторял то движение, которым Луциан вливал в ухо спящему яд. И уже прямо к нему несся обжигающий крик Гамлета — Чехова:
Смотрите! Смотрите! Он отравляет его в саду,
Чтобы завладеть его царством! Смотрите!
«В исступлении, весь дрожа, мешая хохот, слезы, слова, потрясая мечом»67, он вскакивал на помост. Маски спадали и с той и с другой стороны. Гамлет получал окончательную, обжалованию не подлежащую санкцию на решительные действия. Но восторг борца от удавшейся акции отступал перед ужасом человека, оказавшегося у последней черты, заглянувшего из миражной жизни того, что «кажется», в бездну того, что «есть». В этот момент его душа «поседела, поднялась дыбом»68. Здесь решительность неотделима от «страшной раздавленности» и на ней замешена. Вознесенный на острие событий, Гамлет был агрессивно активен, работал «как бы не совсем чистыми средствами»69. Его увлекала стихия ненависти и мести как узкой, этически сомнительной задачи, а не пафос преодоления зла и очищения. Гамлет должен был не только «победить зло», но и «простить человека». И эта вторая часть миссии равновелика первой, ибо если нет прощения человеку, то и всякая победа над злом бессмысленна. В разрешение этой этической темы возникала сцена в спальне Королевы, куда врывался бледный, с помертвевшим от напряжения лицом Гамлет, не выпускающий из рук рапиру. Она начиналась непримиримо. Каждая фраза Королевы — В. Соловьевой — выпад и обвинение. Наносилась, как удар. Ее голос полон нескрываемого гнева и угроз. Гамлет же скорбен, но покоен, внешне неподвижен, но ощущается его волевая собранность. И эта сила, прежде неведомая, в тоскующем принце настолько пугала Королеву, что она звала на помощь. Так погибал вскрикнувший за занавеской Полоний. Потрясенную, вздымающую руки Гертруду Гамлет осаживал горько и просто:
Да не ломай так руки, потише! Сядь!
И после этого начинался монолог о двух изображениях. Но здесь Гамлет не выдерживал. Он срывал с шеи Королевы медальон с изображением Клавдия, швырял его на пол и давил каблуком. Его вновь подхватывала волна слепящего гнева. И только Дух мог остановить его на этом пути. Гамлету же, любящему, удавалось достичь цели: довести Королеву до смятения и раскаяния, открыть всю «бездну зла», которому она причастна. «Окончена борьба, сливаются две темы в глубокой, проникновенной умиротворенности»70. Казалось, одержана важная победа в борьбе с Королем за человека. Но, уже уходя, Гамлет задерживался у авансцены и, не оборачиваясь, доверчиво и печально делился с Матерью:
Известно вам,
Что в Англию я ехать должен71?
Принц замирал в ожидании ответа. Но его так и не последовало в течение долгой, томительной паузы. Это молчание взрывало смысл всей сцены. Оно оправдывало введение в нее, как внутренней темы, фразы из перевода Н. Полевого: «Страшно, за человека страшно мне!». Было страшно за человека, который так опутан злом, что его нельзя прошибить ни гневом, ни любовью, который мог искренне раскаяться и остаться сообщником в убийстве собственного сына. Этот униженный и изгаженный человек вызывал не только сострадание, но и «сомнение великой души в человеческом достоинстве»72. Холодно, устало, опустошенно падали слова Гамлета: «Покойной ночи, матушка, прощайте!»
Во многих рецензиях «неистовых двадцатых» на спектакль МХАТ Второго так или иначе ощущается тоска по Фортинбрасу, по его торжествующему напору и маршевому победному шагу. Жажда «сильной руки» и однозначного, неотягощенного ничем действия заставляла видеть в суровом норвежце естественного союзника. Судьбе Гамлета можно сострадать, его гибель должно оплакивать, но жить, шагать в одной колонне все-таки сподручнее с Фортинбрасом. Причастным же антропософии не хватало Фортинбраса как чистого и светлого вестника из другого мира. Так интерпретировал его место в конструкции «Гамлета» — как «пути к посвящению» — Рудольф Штейнер, влияние которого испытывал на себе Михаил Чехов.
Но спектакль МХАТ Второго не склонен был связывать с Фортинбрасом ни тех, ни других надежд. Вопрос о том, кто придет на смену поколению, пережившему трагедию, для него оставался открытым. Оставалось глубоко неясно, будет ли трагический опыт Гамлета освоен, унаследован или перечеркнут. Но сам театр высказывал свою приверженность недвусмысленно. И сделал это прежде всего в интерпретации финальной сцены.
Последнее появление Гамлета представлено по принципу полярного сходства с его первым выходом. Если у Шекспира место действия этой сцены твердо не определено, то театр поместил его в тронный зал, где во второй сцене Король мрачно праздновал убийство Гамлета-отца и свое воцарение, а теперь готовился здесь отпраздновать убийство Гамлета-сына. Он так же, как и тогда, расположился в центре на троне. Так же полукругом растеклась придворная масса. По краям сцены были расставлены воины с белыми, серебристыми и синими знаменами, которые резко контрастировали с темным, угрюмым колоритом декораций, создавая эмоционально-красочный избыток. Король и его окружение заняли во многом прежние мизансценические позиции. Внешне, казалось, все было, как прежде. Преображенным же оказывался Гамлет. Прежде поникший, тоскующий, одетый в черное, теперь он был в белой рубашке, собранный, полный покоя, но и готовый к действию. Он истово и бесстрашно, с чисто русским самозабвением каялся в своей вине перед Лаэртом. Только прощенный и простивший Гамлет Михаила Чехова мог приступить к поединку. Его покаяние носило не частный, а универсальный характер. Оно входило в состав его миссии «победить зло и простить человека», но входило сложным антиномическим образом. Гамлет оказывался перед необходимостью не только простить падшего, заблудшего человека, но и получить его прощение. «Победить зло», но и избыть собственную вину. По свидетельству М.О. Кнебель, «Степень раскаяния <...> и то, как он просил при всех прощение, потрясали»73.
Несмотря на то что Гамлет противостоял гиперболическому, гротесковому Злу, воплощая тему муки и воздаяния, Михаил Чехов раскрывал в нем не психологию обиды, а психологию вины. Его истолкование питалось русской этической традицией, всесторонне прочувствовавшей этот комплекс настроений и прямо связывавшей муку вины с любовью и искуплением, а муку обиды — с злобой и бунтом. И именно духовно-этическая перспектива психологии вины раскрывалась в восхождении чеховского Гамлета.
Бой принца и Лаэрта Король режиссировал как своего рода «Мышеловку» — аналог и антипод той сцене, которую разыграли актеры по наущению Гамлета. С помощью той «Мышеловки» хотели узнать истину, в этой ее хотят убить. Там была вольная игра в страшную жизнь. Здесь же страшная жизнь прикинулась вольной игрой.
Гамлет начинал поединок доверчиво и безмятежно, как азартное, но бескорыстное и чистое состязание, которое оставалось само собой даже в присутствии Короля. Он не догадывался, что в таком соседстве ему сохранить себя не дано. Поединок-игра здесь превращался в поединок-интригу, в поединок-расправу.
Один из внутренних парадоксов этого спектакля заключался в том, что только Гамлет, играющий, не ведающий, что идет сражение не на жизнь, а на смерть, смог выбить клинок из рук первого датского бойца.
Его убивали и расчетливо и панически, воротя интригу на интригу, теряя голову от собственного коварства. Гамлет же играл беспечно и воодушевленно, бескорыстно и раскованно. И поэтому был непобедим. В удушливом, ожесточенно-целенаправленном мире возникал оазис свободной, самозабвенной игры.
Принца обманули и завлекли в ловушку. Казалось, события проходят по задуманному Королем сценарию. Но в то же время, именно потому, что Гамлет обманут и играет там, где остальные действуют всерьез, он остается неуловим для ловушки, превышает ее возможности. Эта игра возникала ценой освобождения не только от мира Короля, но и от собственной миссии. В то же время именно в ней герой обретал все то, чего ему так не хватало для осуществления завета, данного Духом.
Но вот Гамлет узнавал от умирающего Лаэрта подлинный смысл происходящих событий. Это приводило к «стихийной, ослепительной, как молния, вспышке воли»74. Единым махом он пересекал сцену, настигал корчащегося, трясущегося от страха, вопящего Короля и коротким движением закалывал его. Слова, которыми Гамлет, напутствовал убитого, «были до жути бескрасочны»75. Так он, в конечном счете, осуществлял свою миссию. Но удавалось это сделать, лишь обогатив ее опытом игры. Служение добру оказалось неотделимо от опыта свободы.
Однако со смертью Короля взрыв воли и активности оборачивался мгновенным и глубоким обессиливанием. Яд действовал скоро и сильно, но, казалось, не причинял физической боли. Умирание протекало как истаивание плоти. Но чем более слабым и бессильным делалось тело Гамлета, тем более ярким, всепоглощающим становился его внутренний свет.
Ритм сценического действия все более замедлялся. Освещение из зловеще-красного в момент убийства постепенно переходило в ослепительно белое, заливающее все пространство.
Последние фразы давались Гамлету с трудом. Уже задыхающийся, он разрывал слова паузами. Стоя на середине авансцены с Горацио, он делал «какой-то слабый порыв вперед на слове "Конец", и голос поднимается чуть изумленной интонацией, точно легким захлебывающимся вскриком. Затем ниже и протяжнее — "мол-ча-ние"»76. С этим словом он откидывался на длинный узкий щит, который держали сзади воины, и застывал. Потом его осторожно опускали на пол и покрывали знаменами. Похоронный марш, скорбный вначале, становился постепенно все светлее и радостнее. Затем в него вплетался хор: «Мощный и торжественный взрыв звуков все растет, все ширится, поднимается полувопросительной и незавершенной интонацией»77.
Режиссура истолковывала финал патетично и героично. Но средства для этого использовала весьма традиционные, входящие в некий общепостановочный арсенал. Не случайно П.А. Марков в связи с некоторыми режиссерскими решениями этого спектакля саркастически припоминал оперную помпезность «Лоэнгрина». В финальном апофеозе, созданном театром, патетика легко могла обернуться напыщенностью, героика — превратиться в бутафорский декорум. Если этого не происходило, то потому, что он имел мощное содержательно-эмоциональное обеспечение в лице чеховского Гамлета. Его финальное просветление претворяло элементарность постановочных приемов в поэзию трагического очищения. Здесь крайне важно признание такого многоопытного и искушенного в театральном деле свидетеля, как М.О. Кнебель: «Я теоретически знаю, что такое катарсис. Но пережила я это в театре только однажды, в момент смерти чеховского Гамлета»78. Это сказано человеком, на чьей памяти были шедевры Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, не говоря уже о достижениях последующих режиссерских и актерских поколений.
Связав совет Сулержицкого — «будить человеческое в человеке» — с созданием трагедийного спектакля, МХАТ Второй в значительной мере достигал поставленных целей. Если «Эрик XIV» вызывал в зрителе «ответный крик и ответный вопль»79, то в «Гамлете» напряженнейшее сопереживание судьбе героя, доведенное до последней остроты, разрешалось и очищалось. Здесь интересно сопоставить замыслы создателей спектакля не только с рецензиями, в которых артикулировалось профессиональное восприятие, но и с тем непосредственным зрительским откликом на постановку, который можно найти в эпистолярном наследии 20-х годов. В этих письмах поражает единодушие в описании характера воздействия спектакля. Может показаться, что театр нашел формулу трагического катарсиса. Но при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что такой формулы не было, но была тайна уникальной творческой личности Михаила Чехова, раскрывающаяся в предлагаемых трагических обстоятельствах.
Потрясение, которое испытывал зритель, выводило его далека за пределы сугубо эстетических переживаний. «Я думаю, не только у меня, но у каждого зрителя этот Человек разбудил ту духовную глубину, которую я ощутила быть может впервые, ту чистоту, которая в каждом из нас где-то под спудами и всякими залежами»80, — писала актриса Художественного театра А. Монахова. Тайна воздействия чеховского Гамлета была связана с судьбой целостного идеала человека. Не случайно почти во всех сохранившихся письмах в связи с Гамлетом Михаила Чехова «человек» пишется как Человек. И для зрителя, трагически к нему приобщенного, «сама жизнь предстала в ином свете и проснулась задремавшая было жизнь духа. Совершилось возрождение человека, и это совершил артист-Человек Чехов»81. Других такое преображение обескураживало: «Вы своей игрой сделали меня человеком, и что делать? я не знаю.»82
Но, быть может, наиболее волнующим и глубоким документом является следующее письмо: «Когда среди современного бездушия и мертвечины окружающей обстановки бродишь, как в потемках, и не слышно живого человеческого голоса, и так устал и изверился и не знаешь, где же правда? И чувствуешь себя бессильным бороться со злом, вот тогда вдруг выходите Вы и с высоты сцены провозглашаете: "Се человек!" Вот он живой, страдающий, униженный и оскорбленный. Душа живая и сострадающая — вот что велико и высоко в Вашей игре. Вот что находит свой горячий отклик у таких профанов, как я. И так хочется рвануться навстречу этому живому воплотившемуся всечеловеческому страданию, так хочется крикнуть в ответ: "Я здесь. Я слышу и вижу тебя, униженный и оскорбленный человек! И я несчастен, и я страдаю вместе с тобой и твоим страданием"»83. Однако не только боль униженного и оскорбленного человека, а и его величие воплотил Михаил Чехов: «Как радостно, сколько новых сил рождается, когда сознаешь, что дух человеческий еще может быть так велик, еще может быть так могуществен»84. Личность чеховского Гамлета «заставляла с особенной силой ощущать свое человеческое "я", и под ее влиянием как будто распускались в душе цветы, тянущиеся к небу и к свету»85.
Гамлет Михаила Чехова отвечал общей глубинной потребности в человеческом. На фоне обесценивания отдельного человеческого существования, ибо в разрывах и провалах, вызванных историческим катаклизмом, люди гибли скопом, он заставлял зрительный зал переживать жизнь и смерть своего героя, как исключительное, уникальное, но и узнаваемое, близкое событие. Чехов возвращал смысл и значение отдельному человеку и его способности к добру перед лицом «ревов и диссонансов» музыки времени. В муке и покаянии он искупал грехи гуманизма, чтобы уберечь его от полной гибели.
Трудно согласиться с теми исследователями, которые видят в чеховском Гамлете не гуманистическую миссию, трагически противоречивую и разорванную, а «апологию индивидуализма», «апофеоз анархического индивидуализма»86, «неограниченное самоутверждение»87 отдельной личности. Так Б.В. Алперс готов поставить в вину М. Чехову и МХАТ Второму то, что эпохе массовых движений, когда «отдельный человек терял свою обособленность в мире, переставал быть "мерой всех вещей", становился маленькой частью огромных людских коллективов, уступая значительную долю своей духовной независимости»88, они пытались противопоставить надрывный вопль в пользу неограниченных притязаний индивидуалиста. Но это далеко не так. В Гамлете Михаил Чехов был готов уступить (и уступал) «значительную долю своей духовной независимости», и прежде всего своеволие, в надежде отстоять право и возможность любви, сострадания и прощения. Но именно здесь, в самой заветной части своей миссии актер расходился с эпохой, полной «бури и натиска». Ибо возникающий новый «практический гуманизм» самоопределялся вне этих универсальных категорий любви, сострадания и прощения, которые были ключевыми для Михаила Чехова. Идеи социальной обусловленности морали в 20-х годах утверждались в сложной, напряженной атмосфере и часто интерпретировались с сектантской узостью и утилитарной беспринципностью. Широко понятая историческая необходимость была признана ведущим, не подлежащим пересмотру критерием в оценке любого человеческого деяния.
Еще в 20-е годы критики заметили некоторую общность творческих и духовных судеб Александра Блока, Евгения Вахтангова и Михаила Чехова. Настало время в это сопоставление углубиться и определить моменты как соприкосновения, так и решительного расхождения.
Казалось бы, наиболее противоположные позиции Блок и Чехов заняли в вопросе о традиционных духовных ценностях. Для поэта кульминационным стал январь 1918 г., когда он «в последний раз отдался стихии» и в «согласии со стихией»89 создал «Двенадцать». Его захватили «ревы и диссонансы» музыки, противоположной «привычным для нас мелодиям об "истине, добре и красоте"»90. Эта стихия не отпускала его вплоть до 1919 г., когда была написана статья «Крушение гуманизма», историческое по значению эссе о «концах» и «началах». Последующее постепенное угасание музыки стало для поэта трагическим фактом, но от нее он так и не отрекся. По его ощущению, музыке изменила сама действительность.
Михаил Чехов, «гуманист на театре ожесточенного времени»91, и Александр Блок, принявший сторону «ревов и диссонансов», казалось, были антиподами в условиях революционной эпохи. Но ситуация таким прямым противопоставлением не исчерпывается. Свойственное Чехову восприятие «жизни в контрастах и противоположностях»92 вело его к весьма конфликтным отношениям с привычными мелодиями об «истине, добре и красоте». В них он чувствовал все тот же «самодовольный лик эгоизма», что и в «прямых и простых психологиях»93. Не менее Блока он ощущал процесс превращения «привычных мелодий» в затверженные прописи и общие места, в предмет корыстных спекуляций.
Но выводы из понимания кризиса этих идеалов они делали весьма различные. Поэт обрекал их на смерть перед лицом музыки. Причем эта смерть выглядела даже не осмысленной и достойной гибелью, но не заслуживающей сожаления деградацией и вымиранием. Трагедией могло быть только умаление духа музыки.
Михаил Чехов, по его собственному признанию, «воспринимал доброе и злое, правое и неправое, великое и малое, как некие единства»94. И это ощущение антиномического единства жизни стало основой и почвой творчества художника. Оно вело к тому, что в истине, добре и красоте, вобравших опыт своих антагонистов и антиподов, открывалась напряженная музыкальная (в блоковском смысле) жизнь. Но менее всего здесь можно было бы говорить о какой-либо ценностной относительности и двусмысленности. В том, как играл Гамлета Михаил Чехов, необходимо выделить два исторически важных и связанных между собой обстоятельства. Во-первых, это был опыт трагического оправдания человека и его способности к добру. Во-вторых, Михаил Чехов также оказывался причастен музыке, но для него она возникала там, где Блок уже не предполагал ее услышать. Актер находил ее в трагической жизни идеалов истины и добра.
В 20-е годы критики левой и вульгарно-социологической ориентации увидели в его Гамлете наступление «правой реакции». Но это было корыстное переложение трагического искусства на политизированный язык времени. «Нежный и странный гений»95 Михаила Чехова синтезировал противоречия и крайности эпохи в ее целом. Его творчество созвучно той формуле искусства переломных лет которую дал М. Волошин: «В эпохи катастрофические поэт может быть унесен какой угодно струей внезапного водопада, сражаться в рядах какой угодно партии, как поэт он станет голосом всей катастрофы»96. Но при всей универсальности этического пафоса Михаила Чехова говорил, он от имени «униженных и оскорбленных» своего времени, понимая это представительство во всей его трагической сложности и антиномичности.
А. Блок писал о печальной участи художников, которых «мещанская цивилизация» либо преследует и гонит, либо «прощает» и усваивает в популяризованном, опошленном виде. Последнее есть окончательные «гибель и поругание». С этой точки зрения — благо тем художникам, которые носят в себе «спасительный яд творческих противоречий»97.
Михаил Чехов принадлежит к тем великим явлениям 20-х годов, которые не поддаются эстетическим и каким-либо еще адаптациям. Он упорно сопротивляется попыткам превратить его в удобный элемент культурного обихода. Его искусство так и не превратилось в историческую реликвию, но остается предметом страстей эпохи.
Примечания
1. Марков П.А. О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1974—1977. Т. 3. С. 91.
2. Там же.
3. Там же. С. 90.
4. Протоколы репетиций спектакля «Гамлет» // Музей МХАТ. Архив К.С. № 140 8/2. Частично опубликованы в кн.: Советский театр: Документы и материалы, 1921—1926. Л.: Искусство, 1975. С. 170—176.
5. Характер преломления некоторых мотивов европейского экспрессионизма в спектакле МХАТ Второго исследован Н.Н. Чушкиным. См.: Чушкин Н.Н. Гамлет — Качалов. М.: Искусство, 1966. С. 198—212.
6. Соболев Ю. «Гамлет» в МХАТ 2 // Вечерняя Красная газета. 1924. 25 ноября.
7. Там же.
8. Марков П.А. Указ. соч. С. 194.
9. Протоколы репетиций. Л. 45.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же. Л. 2.
13. Там же.
14. Там же. Л. 1.
15. «Гамлет» во МХАТ Втором: Программа. М., 1925.
16. Протоколы репетиций. Л. 4.
17. Марков П.А. О театре. М.: Искусство, 1974. Т. 2. С. 303.
18. Анненков Ю. Единственная точка зрения // Жизнь искусства. 1921. 15—17 июня.
19. Соболев Ю. Первая студия МХТ. «Эрик XIV» // Вестник театра. 1921. № 87—88.
20. Дикий А.Д. Повесть о театральной юности. М.: Искусство, 1957. С. 308.
21. Марков П.А. О театре. М.: Искусство, 1974. Т. 1. С. 405.
22. Там же. С. 390.
23. Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах. М.: Искусство, 1959. С. 21.
24. Шанько Т.Б. «Гамлет». Воссоздание спектакля // Музей МХАТ. Архив К.С. № 14087. Л. 7.
25. Протоколы репетиций. Л. 49.
26. Там же. Л. 50.
27. Там же.
28. Угрюмов Дм. Во 2-м МХТ. «Гамлет» // Новая рампа. 1924. № 24. С. 4.
29. Пыжова О. Призвание. М.: Искусство, 1974. С. 75.
30. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 11.
31. Там же. Л. 21.
32. Там же.
33. Протоколы репетиций. Л. 12.
34. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 22.
35. Там же.
36. Протоколы репетиций. Л. 4.
37. Письмо М.А. Чехова А.И. Чебану // Музей МХАТ. Архив М. Чехова. № 7242.
38. Громов В.А. Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970. С. 118.
39. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 34.
40. Протоколы репетиций. Л. 8. Здесь знаменательно сближение трагической судьбы Гамлета и мученической участи Христа, предвосхищающее пастернаковского «Гамлета». И в то же время это стихотворение включено в роман о судьбе русского интеллигента в революции. Тем самым тема Гамлета — Христа возвращена той исторической ситуации, в которой существовал и которую художественно претворял МХАТ-2.
41. Ромашов Б. МХАТ Второй и современность, 1922—1925 // MXAT-2-й. М., 1926. С. 38.
42. Протоколы репетиций. Л. 12.
43. Там же.
44. Там же.
45. Марков П.А. О театре Т. 1. С. 406.
46. Там же.
47. Белый А. Ветер с Кавказа. М.: Федерация, 1928. С. 245.
48. Протоколы репетиций. Л. 3.
49. Херсонский Х. «Гамлет» в молодом МХАТ // Известия. 1924. 19 нояб.
50. Протоколы репетиций. Л. 12.
51. Там же. Л. 12, 32.
52. Там же. Л. 12.
53. Громов В.А. Указ. соч. С. 122.
54. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 57.
55. Громов В.А. Указ. соч. С. 122.
56. Там же.
57. Там же. С. 123.
58. Протоколы репетиций. Л. 13.
59. Там же. Л. 66.
60. Цит. по «Режиссерскому экземпляру "Гамлета" А.И. Чебана» // Музей МХАТ. Архив К.С. № 14086.
61. Кнебель М.О. Вся жизнь. М.: ВТО, 1967. С. 118.
62. Протоколы репетиций. Л. 9.
63. Там же. Л. 7.
64. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 62.
65. Протоколы репетиций. Л. 9.
66. Там же. Л. 14.
67. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 71.
68. Протоколы репетиций. Л. 15.
69. Там же. Л. 54.
70. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 82.
71. Там же.
72. Режиссерский экземпляр «Гамлета».
73. Кнебель М.О. Указ. соч. С. 122.
74. Громов В.А. Указ. соч. С. 129.
75. Кнебель М.О. Указ. соч. С. 123.
76. Шанько Т.Б. Указ. соч. Л. 105.
77. Там же. Л. 106.
78. Кнебель М.О. Указ. соч. С. 123.
79. Марков П.А. Указ. соч Т. 1. С. 391.
80. Монахова А.А. Письмо Лазареву И.В. // Музей МХАТ. Архив Лазарева. № 12151.
81. Письма зрителей и читателей // ЦГАЛИ. Ф. 2316. Оп. 1. Ед. хр. 62.
82. Там же.
83. Там же.
84. Там же.
85. Там же.
86. Чушкин Н.Н. Указ. соч. С. 207.
87. Алперс Б.В. Творческий путь МХАТ Второго. Цит. по кн.: Алперс Б.В. Театральные очерки. М.: Искусство, 1977. Т. 2. С. 11.
88. Там же. С. 14.
89. Блок А.А. Собр. соч. М.; Л.: Худож. лит., 1960. Т. 3. С. 474.
90. Там же. 1962. Т. 6. С. 112.
91. Марголин С. М. Чехов: Программа гос. акад. театров. М., 1927. № 3.
92. Чехов М.А. Путь актера. Л.: ACADEMIA, 1928. С. 40.
93. Там же. С. 41.
94. Там же.
95. Марков П.А. Указ. соч Т. 1. С. 405.
96. Волошин М. Поэзия и революция: А. Блок и И. Эренбург // Камена, Харьков, 1919. Кн. 2. С. 11.
97. Блок А.А. Собр. соч. Т. 6. С. 24.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |